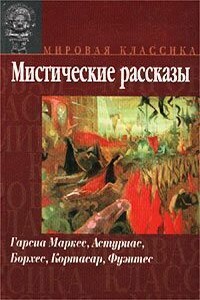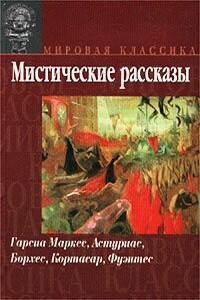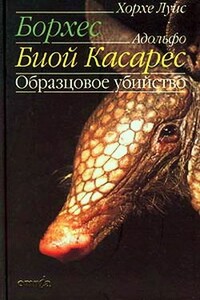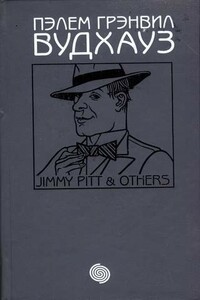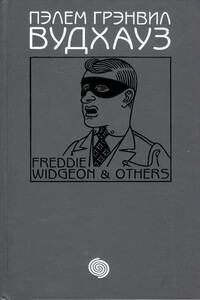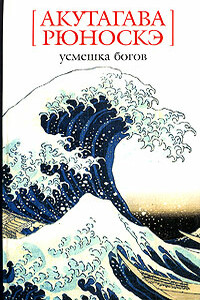«Бин-бин-бин» – стучали капли по лицу окна, плакавшего чужими слезами, а я поглядывал на стрелки часов: вот-вот они сомкнутся – на двенадцати – и задушат меня. Высокое окно, низкий потолок, стены, стонущие при совокуплениях в цементе углов. Да, стены сближались и сужались, одна – приземистая, другая – продолговатая, третья – вздутая, четвертая – со стеклянным влагалищем, они двигались в этом единственном укромном месте на сумасшедшей карте Великого города [1]. Мне не хотелось смотреть в окно. Я всегда тут скрывался, бежал от вязкой беспринципности, от тошнотворной угодливости, подслащенной розовым сиропом и любезной улыбкой, не сходящей с лица торговой площади размером в страну; я бежал от загаженных и заплеванных дворцов, от полчищ грызунов, одетых в габардин и твид, навсегда покрасневших под родимым солнцем; бежал от этих самых грызунов – natura naturata [2], – что толкутся в жерновах неонового света, превращающего их в напомаженные трупы, которые плавают – с подбритыми гениталиями, свежими разрезами на телах под твидом и вставными зубами, – в формалине ночного морга. Когда часы обнимут самих себя, вытянув и сжав в полночь обе свои ноги, то скоро, я это знаю, придут мои незваные гости. Они уже ждут в прихожей моего сознания, пока ноги времени не заденут их в своем магическом беге. Я знаю, что скрип двери, их хриплое и натужное завывание под сурдинку, весь этот квази-африканский концерт с его «тран-тара-тан-тан-тан» в четырех стенах – не более чем лицедейство, любезное притворство, приглашение коварных святош на чашечку шоколада, отравленного болью и присоленного сгустками крови. А они бренчат без умолку на тысячах гитар, будто их пальцы продолжились струнами. Но что кроется за их улыбчивым оскалом и дружеским похлопыванием по плечу? Однажды ночью они хотели проникнуть сюда под видом марьячей [3]. Одних их песенных стенаний, неуловимым убийцей влившихся в мою комнату через замочную скважину, – куда они смотрят день и ночь, – было достаточно, чтобы я обезумел от ярости. А ведь все это приносилось мне в дар. Нет, не знают они о ящике Пандоры, о гибельной силе мифологии! Мифы живы, их боги-монстры и поныне – с одышкой, с инфарктами – довлеют над нами, обращая нас в дальтоников, чтобы бесцветной тенью слиться с пылью и грязью; они возятся под землей, чтобы высовывать наружу довольные морды; они летают по воздуху и потрошат горы, потрясая обсидиановыми ножами. Они укрываются в политических центрах, мечут громы и молнии в красных президиумах, залегают в тине при вражеских вторжениях, дремлют в годы вековой сиесты. Из всех тупиков они находят выход; дожив до седин, надуваются индюками; упав в пропасть, выползают змеями. Ныне сиеста затянулась, и когда они просыпаются, чтобы что-нибудь пожевать, кто-то из них орет с верхушки кактуса-нопаля: «Мы вернулись встретить самих себя!».
Я бегу от них, от жалких подобий древних чудовищ, от пигмеев, снова обретающих величие лишь тогда, когда надо прятать гнев под каменной усмешкой и ловко перебирать гитарные струны. На улице они зло смотрят на меня, наступают мне на ноги, толкают, говорят и делаю! гадости. Не дай бог заглядываться на их женщин, не дай бог отказываться выпить с ними, не дай бог дать им понять, что мой мозг и моя память устроены не так, как у них!
На лестнице Дворца изящных искусств мне встретился Дон Диего. Я не люблю выходить из своего номера в отеле, а когда выхожу, предпочитаю бродить в одиночестве. Если случается с кем-нибудь встретиться, стараюсь быстрее отделаться от спутника. Но с Доном Диего так не выходит, хотя этот старый, обсыпанный перхотью карлик-горбун своей болтливостью способен доводить меня до исступления.
– Дорогой Оливерио! Глазам своим не верю! Чудо из чудес! Ты, наверное, пришел – ох, уж эта нынешняя молодежь, – поглазеть на так называемое искусство здесь, на верхнем этаже. Ладно, ладно, сначала давай-ка завернем в колониальный зал – мой самый любимый зал, как ты знаешь, – а потом я доставлю тебе удовольствие и провожу к современному искусству. Входи, входи, нет-нет, я после тебя. Еще чего не хватало!
В зале колониальной эпохи Дон Диего долго разглядывал лицо какой-то красавицы XVIII века. Прекрасное женское лицо, смуглая кожа с оттенком жженого сахара, соболиные брови, одежда – белые кружева. Затем мы поднялись на выставку современной живописи. Дон Диего начал нетерпеливо постукивать тростью:
– Ай-яй-яй, и это называется искусством. Спаси Господи! От таких страшилищ дрожь пробирает, Оливерио. Когда становишься стар, хочется красоты, тянет к незамысловатым формам!
Мы прогуливались по трапециевидной галерее, обозревая картины, развешанные на стенах из бальсового бруса. Свет – аквамарин и лазурь, – проникавший через северное окно, как через ледяной куб, скользил по деталям и высвечивал самое существенное: горб Дона Диего, мой кофейный нос и картину в ближнем углу.
– Та-ма-йо [4], 1958, – прочитал, прищурившись, Дон Диего. – Ну и ну! Сравни-ка с незнакомкой, которую мы только что видели. Ту женщину можно и сейчас встретить на улице, а эта… Она же разрублена красками на куски, будто искусство четвертует искусство. Посмотри, нет, ты только погляди на ее немыслимую шею, на… Ну где ты видел такую женщину?