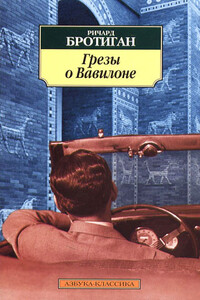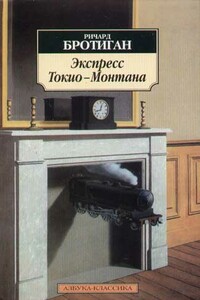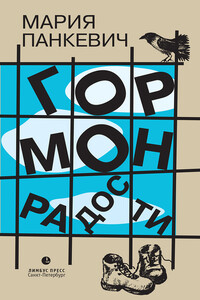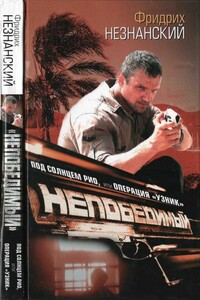Констанс неуклюже перевернулась на кровати, чтобы посмотреть, как он выходит из комнаты.
«Я весь день об этом думал, – сказал Боб. – Я хочу, чтобы ты…– его голос удалялся вместе с ним, – ...послушала», – по коридору в другую комнату.
Она лежала неуклюже в ожидании его возвращения. Думала, что он вышел совсем ненадолго, но его не было почти десять минут.
Воздух в спальне был тёплым и неподвижным. Стоял необычно тёплый для Сан-Франциско[3] сентябрьский вечер, но окно было закрыто, а жалюзи опущены.
Так было нужно.
Он не может найти книгу, подумала она.
Он вечно всё терял. Вот уже долгие месяцы у него были проблемы с тем, чтобы хоть что-нибудь сделать правильно. Это печалило её, потому что она его любила.
Она вздохнула, что вышло несколько приглушённо из-за носового платка, неплотно затыкавшего её рот. При желании она могла бы легко вытолкнуть платок изо рта языком.
У Боба теперь ничего не получалось.
Даже заткнуть её как следует.
Но, конечно, руки он связал слишком туго, а ноги – слишком слабо, и она снова вздохнула приглушённо, ожидая, когда он найдёт книгу, которую потерял, что стало теперь обыкновенным во всём, чем бы он ни занимался.
Он не всегда был таким, и она чувствовала себя виноватой в этом, потому что думала, что отчасти из-за её ошибки у него появились бородавки, а когда появились бородавки, всё это и началось. Лампе, свисавшей с потолка, следовало быть стоваттной, но лампа была на двести ватт. Его работа. Она не любила столько света. Он – любил.
Наконец он вернулся в комнату с книгой, и Констанс вытолкнула кляп изо рта и сказала: «Рукам слишком тесно».
«О», – сказал он, опустив на неё взгляд с книги в своей руке, открытой на определённой странице, которую он как раз собирался зачитать вслух.
Он положил на кровать книгу, всё ещё открытую на странице, которую он собирался прочесть. Сел рядом с Констанс, и она неуклюже перевернулась на живот, чтобы он смог добраться до узла на верёвке. На ней совсем не было одежды, а тело её было красивым.
Он перевязал её руки, чтобы было не так туго, но всё же достаточно туго, чтобы она не могла их освободить.
«Перевяжи мне ноги, – сказала она. – Им слишком свободно».
Если он собирается стать садистом-любителем, подумала она, надо ещё постараться, чтобы это у него получалось, как следует.
Он очень её разочаровывал. Она была перфекционисткой во всём, что делала, и её очень раздражала его новоприобретённая некомпетентность.
Все те месяцы, что длилась его карьера садиста-любителя, она думала: всякий сможет связать и вставить кляп кому угодно, почему у него не выходит?
Почему он не способен ничего сделать правильно, заливает растения, и вещи падают из его рук, и он вечно спотыкается, и разбивает вещи, и забывает, о чём говорит, посередине почти половины разговоров, но, думаю, это не имеет особого значения, потому что он всё равно не говорит ничего интересного, и это продолжается месяцами, с тех пор, как она одарила его бородавками, но разве она сама от них не страдала, не ходила столько раз к доктору, пока бородавки не выжгли из вагины электрической иглой, не возвращалась потом домой на автобусе, сдерживая слёзы в одиноком движущемся скопище беззвучных странников? … о боже… что ж… мы могли бы умереть. Может быть, это лучше смерти. Наверно. Я не знаю.
Закончив заново связывать ей ноги, он собирался поднять книгу, которую раньше хотел почитать. Потом он заметил, что кляп выпал изо рта Констанс. Он снова отложил книгу и наклонился к ней. Она знала, чего он хочет и что будет делать.
Она открыла рот как можно шире.
Внезапно он занервничал. Иногда, затыкая рот, он толкал большим пальцем часть кляпа в её нижнюю губу, и когда кляп входил, рту было больно, и она очень злилась на него и ругалась: «УБЛЮДОК!» Когда кляп оказывался во рту, ругань делалась невнятной, нечленораздельной, но он знал, что она говорит, и из-за этого ему всегда становилось плохо, и иногда он краснел, а уши его горели от смущения.
Она сердито смотрела на него своими красивыми зелёными глазами. Он отворачивался и ждал, пока она остынет.
Ему не нравилось проявлять некомпетентность, но тут уж ничего нельзя было поделать. Это продолжалось месяцами и также не добавляло ему приятных ощущений.
По тому, насколько широко она открыла рот, он догадывался, что следует лучше контролировать свои нервы, и не сделать ей больно, засовывая кляп обратно.
Рот у неё был изящный, язык скульптурный, розовый. Кляп стал уже очень влажным от её слюны. Боб осторожно поместил его обратно в рот, следя за тем, чтобы не повредить ей своим большим пальцем. Поработал указательным, чтобы кляп проник во все закоулки рта.
Она лежала на животе, с руками, связанными за спиной и лежащими прямо над её задом. Голова была запрокинута назад, так, чтобы ему было легче вставлять кляп.
Они делали это много раз.
Комната освещалась слишком ярким светом. У Констанс были длинные светлые волосы. Уголок кляпа торчал между её зубов. Боб очень осторожно подоткнул этот уголок. Потом как следует пихнул кляп пальцем вглубь рта, чтобы сделать её язык совершенно неподвижным, неспособным на то, чтобы вытолкнуть кляп наружу.