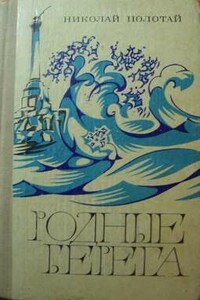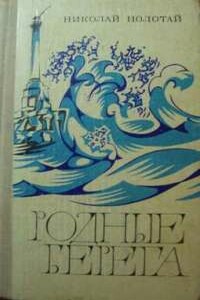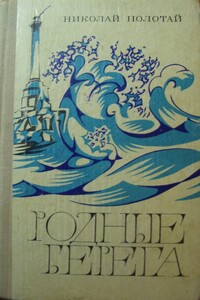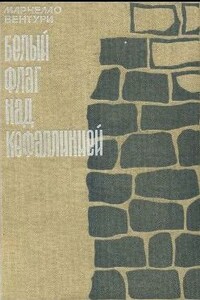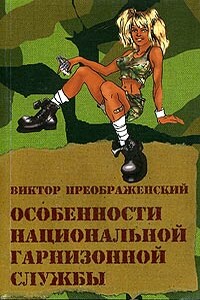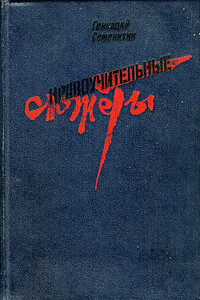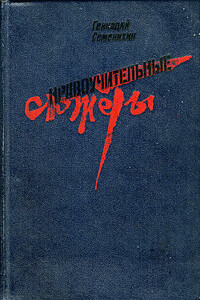Николай Исидорович Полотай
У колодца
Артобстрел продолжался.
Наши отходили к Херсонесскому маяку. В городе оставались небольшие подразделения, прикрывавшие отход войск. Жители ютились в полуразрушенных подвалах, не имея возможности покинуть город: не хватало транспорта, не было сил идти пешком.
И — куда?..
Фашист наседал, обложив дугой город. Вот-вот ворвется.
Что будет с нами? Что будет?..
С такими тревожными мыслями Игорь Петрович Сергушин спускался по Одесской улице туда, где на стыке с улицей Кази, возле деревянного мостика, находился колодец.
Кто знает, сколько десятилетий назад он был вырыт. Помню, еще мальчишкой видел, как к колодцу подъезжали дрогали, извозчики, поили лошадей, мыли телеги. Потом, кажется, вода ушла, колодец был забыт. Да и в городе прибавилось водопроводных кранов в квартирах и колонок на улицах.
А в дни осады города, когда вода на вес золота, — стали отыскивать забытые родники и колодцы. Вспомнили и об этом колодце-ветеране. Стоило многих усилий и времени, чтобы извлечь со дна колодца немного ржавой, солоноватой воды.
Сергушин не в первый раз приходил к колодцу добыть драгоценной влаги — для себя и,
как ни странно, для своих комнатных цветов, которые любил до самозабвения, какпамять о той, которая когда-то принесла их в этот дом, а потом умерла среди них. Игорь Петрович, не будучи суеверным, очевидно, считал, что, сохраняя цветы, он какбы продлевал жизнь той, которую уже ничем не оживить.
До войны Сергушин служил бухгалтером в сберкассе.
Сейчас— ни денег, ни вкладчиков, ни сберкассы.
В армиюон не был зачислен: в детстве сорвалсяс крыши, сломал ногу и остался инвалидом на всю жизнь.
Долго жил один, в отдельной квартире, которую, не в пример холостякам, тщательно убирал, сам готовил себе пищу. Горшочки с цветами украшали его уютное гнездышко. Разбил цветничок и под окошком, у которого любила сидеть больная жена.
Жил замкнуто, друзей не имел. С детства, дразнимый Хромоножкой, он невольно копил яд, злобу на всякого, даже на того, кто, возможно, сочувственно смотрел ему вслед.
Так с годами все глубже и глубже уходил в себя, в свои переживания, в свои интересы. Растил цветы, читал книги. И всегда не забывал тот злополучный день, который навечно лишил его озорного детства, мальчишеских войн и юношеских походов.
Вот только шахматы! Тут он был «на коне». Изучал теорию, вечно разбирал головоломки, этюды, даже сам составлял и посылал в журналы. И уж с каждым, кто изредка заходил к нему, порывался сразиться в шахматы. И обязательно — чтобы выиграть! Играл хорошо и всегда испытывал странное торжество при победе: какое-то неосознанное чувство сладкой мести и невозможность взять реванш по дворовым играм.
Были у Игоря Петровича брат и сестра да старушка мать. Встречались редко, как-то недружелюбно. Сестра и брат — крепкие, ладные, отличные спортсмены. И то ли зависть к ним сделала Игоря Петровича отчужденным от них, от родного очага, то ли сочувственные, но невыносимые взгляды родных.
А сейчас вот затосковал по ним.
Брат мобилизован, а сестра с матерью эвакуировались. Куда?.. Игорь Петрович и сам
толком не знал. Письма не доходили. Что ж, кончится война — найдутся.
Только один раз, когда Сергушин шел к колодцу, встретил младшего брата. Тот был в армейской форме.
— Ну, как? — сухо спросил Игорь Петрович.
— Воюем!
— Кажется, довоюемся, — бежать будет некуда.
Брат неласково покосился:
— Да ты далеко и не убежишь!..
Бестактность брата вывела Игоря Петровича из равновесия.
Разошлись не попрощавшись.
Сергушин выжидал. Верилось: все уладится, врага отгонят и снова будет работа в сберкассе, все станет на свое место.
Он неподдался панике, не просил, не требовал, чтобы его эвакуировали как инвалида. Но и сам не проявил старания, — только ждал, ждал.
Однажды попросился в какой-то комитет, предложил свои услуги — еще в первые дни войны, но начальник осмотрел Сергушина с головы до ног, молча пожал плечами и упорно стал тереть переносицу.
Не дожидаясь ответа, Игорь Петрович резко повернулся и вышел. Он предугадал ответ: кому нужен Хромоножка?..
И вот эта встреча с братом. Может быть, последняя.
Игорь Петрович начинал чувствовать себя лишним, ненужным, униженным и даже презираемым.
Годы отчуждения сделали его циничным, напускно-равнодушным, и даже на службе про него говорили как-то неопределённо: бог его знает, что за человек? Какой-то скрытный, въедливый, палец в рот не клади. Может быть, кто и жалел его, да только вряд ли это могло служить утешением. Иным жалость что нож в сердце. Лучше уж пусть — Хромоножка!
А вот в душу к себе никого не пускал. Так и жил — один с собой, в себе. Короткое семейное его счастье так же внезапно оборвалось, как и ворвалось. Цветы — последнее живое, что он ощущал, лелеял как память быстро угасшего счастья.
Но и цветы пожухли от недостатка влаги, хотя и держались еще какими-то незримыми соками, как и сам Сергушин.
Жил Игорь Петрович на окраине, в небольшом домике, бомбежка не велась по таким неприметным целям, и домик с миниатюрным палисадником стоял на отшибе неопаленный, словно ему, как и хозяину, было не до войны.
А фашист все ближе и ближе.