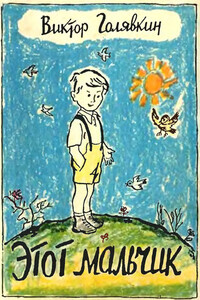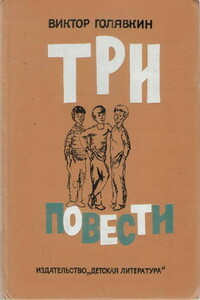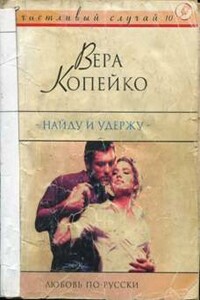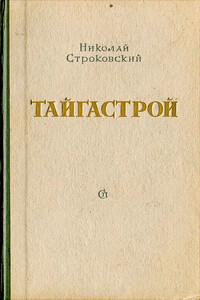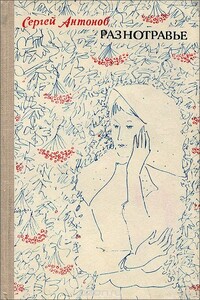Виктор Голявкин
Три рассказа
Предисловие Анатолия Наймана
В романе "Любовный интерес" ("Октябрь", 1999, No 1) есть несколько абзацев о Викторе Голявкине, о его появлении на художественной сцене Ленинграда середины 50-х годов.
"Его зовут Витя, и, когда с ним разговаривают, называют Витя, а за глаза - Голявкин. Он разговаривает по-своему, коротко, внушительно и смешно, и слова произносит по-своему, например, "вашшэh", что значит "вообще". В его картинах чистый цвет, равновесие ласточкиного полета, море, песок, дети, собаки, все делают всё, но не сами по себе, а как умеет искусство: море купает, а не люди купаются, песок желтый, потому что вода и солнце, собаки лезут к детям, потому что те их нарисовали. Он сам нарисован: большая круглая голова и при этом плоское лицо, поперечина узкого рта, маленькие веселые глаза, волосы торчком. Похож - многие похожи, но он больше других на портреты Целкова, на селекционные его башки и шеи. У целковских агрессивная бесчувственность класса-гегемона, Леже, доведенный до штампованности членов Политбюро, но и голявкинское пристальное холодное вглядывание, и его чистый румянец.
Голявкин толстый, мощный, быстрый, коротко хохочет, приехал из Баку, чемпион по боксу, пьет, когда и сколько влезет, нормальный человек. Он художник, артист, поэтому купил на барахолке шинель венгерского пехотинца с оловянными пуговицами, но она не сходится на нем и потрескивает в плечах. Ему снится сон: комната, стул, на стуле его пиджак, на лацкане звезда Героя Советского Союза. Он говорит: "Куплю, вашшэ, избу, утром выйду на крыльцо: кышш - и курицы во все стороны!"
Все стали говорить "вашшэ", придумывать похожее на "крыльцо и кышш", искать по комиссионкам пальтеца из дешевых сукон нестандартного цвета. Все хотели сочинять такую прозу, как он. Потому что в дополнение к живописи или в предвосхищение ее он с самого начала писал рассказы вроде снов с пиджаком и курицами, вроде картин с детьми на пляже. Флажки, флажки, кругом флажки, на заборе сидит мальчик и ест флажок - в таком роде. Он так говорил, видел и писал. Литературные доки производили его от обэриутов, дадаистов, находили логическое завершение раннего Зощенки и, конечно, реакцию на абсурд официального стиля. Он получал удовольствие от этой заинтересованности, повсеместного говорения о нем, обсуждения его персоны со стороны. Зощенковские рассказики он, конечно, читал, детские стихи Хармса и "Столбцы" тоже, а из остального можно говорить с уверенностью только об "Истории рассказчика историй" Шервуда Андерсона, которую месяцами таскал в кармане.
Трех-, семистрочные новеллки, перепечатываемые под копирку, заучиваемые наизусть, передаваемые друг другу как свежие стихи или анекдоты, получили наименование "взрослых" - их не публиковали. Публиковали Голявкина "детского": "Рисунки на асфальте", "Тетрадки под дождем", "Арфа и бокс". "Я сейчас книжку пишу, хочу ей дать такое название ашшэ странное - "Арфа и бокс"". Электричка, летний день, мы едем из Комарова - он, Аксенов и я, солнце с нашей стороны вагона, печет, мы выпивши, и нас развозит. "Так сейчас не называют,- говорит Аксенов,- старомодный фасон". ""...и бокс"",повторяет Голявкин, хохотнув с серьезными глазами и имитируя удар ему в челюсть. "И арфа,- говорю я Голявкину,- или я сейчас выйду". Он знает, о чем речь, он может и не только сымитировать, такое бывало.
Четвертая книга в "Детской литературе" у Голявкина вышла "Мой добрый папа" - такая же детская, как Диккенс, которого тоже там издавали. Я ее прочел, захлопнул, посмотрел еще раз на обложку, прочитал с удовольствием вслух: "Мой добрый папа",- и оказалось, что я это уже о своем отце говорю. Голявкинский папа отнюдь не слащавый - смешной человек, непутевый, не великого ума, просто - добрый. Все на свете - смешные и не больно толковые и так ли, сяк ли глуповатые, но почти нет добрых. Героев больше, хотя тоже считанные. А чтобы добрый и герой, то, если не в сказке, так только у кого-то, кому-то попадался - не тебе, не у тебя. Вот папа у Вити Голявкина. Голявкин - писатель вроде Венедикта Ерофеева, то есть вне списков. Только у Ерофеева готика: шалаш, да каменный; никак, да только так; что написано пером, не вырубишь топором. А у Голявкина пьяных нет, трезвые, а закона не выведешь, и что читаешь, то впечатление, что и до этой минуты знал, что это знаешь: из какой-то верной книги вроде голявкинской"...
И вот в этом году Виктору Голявкину, ни много ни мало, семьдесят лет. Я в жизни ничего подобного не видел, чтобы человек так не изменился. Четверть века назад у него случился апоплексический удар, он стал приволакивать ногу и перестал появляться на людях со своей фирменной непредсказуемостью и атакующей неотменимостью. Литературная среда довольно быстро вычеркнула его из своих списков. Вашшэ-то говоря, он и раньше не очень в них вписывался. Годам, как правило, к тридцати - сорока писатели занимают положение, среда устаивается, литература нового поколения входит в рамки таких понятий, как процесс, концепция, направление. Голявкина в эти шкафы вставить было трудно, он из них и высовывался, и изнутри разламывал. Провести с ним полчаса-час было интересно, весело и даже плодотворно, потом долго можно пересказывать его словечки и поступки, но через час появлялось ощущение, что не все так легко, смешно и занимательно,- от него исходило давление. Он был фигура необщепринятого ранга, его увлекали необщепринятые вещи. К тому же у него был трудный характер: обаятельная, щедрая натура, но - исподволь, ненамеренно подчиняющая себе. И, главное, между ним и любым другим всегда сохранялась дистанция, в продолжении пития, прогулки, в шутке, в разговоре об искусстве. Короче, он не входил в компанию.