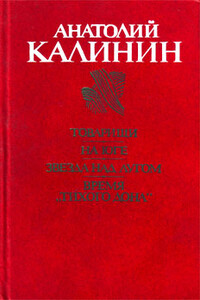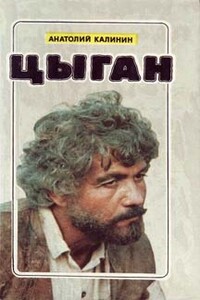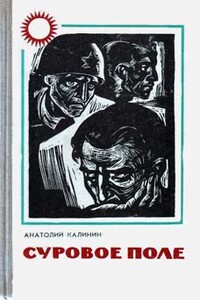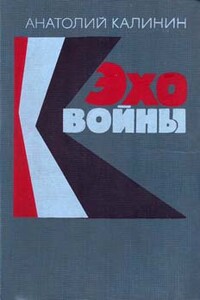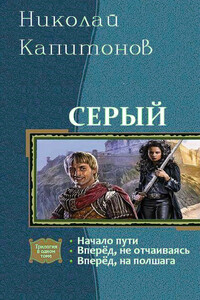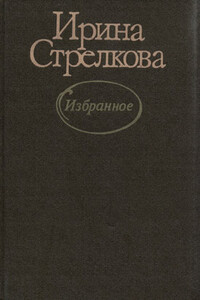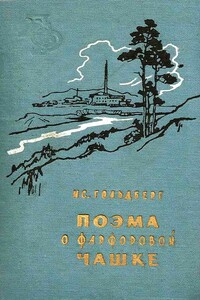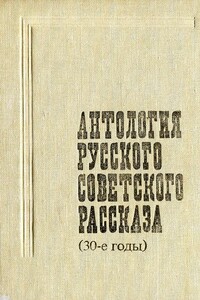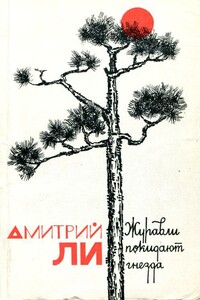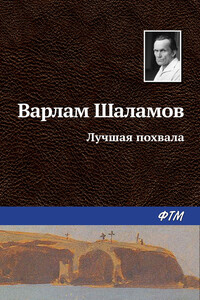1
Июль уже переломился на вторую половину, а слева от дороги, по которой рота капитана Батурина отступала от Миуса, так и стояла пшеница. Справа шевелилось море. Вдоль Азовского побережья и по всем боковым проселкам, а больше по бездорожью, по неубранному хлебу, бренча и громыхая, двигался с запада на восток поток солдат и беженцев, машин и лошадей, пушек и полевых кухонь. Левофланговая армия Южного фронта, которая после взятия Ростова в ноябре 1941 года зиму и весну продержалась на Миусе, строя уры, доты, дзоты, стремительно отступала к Дону. Враг пришел не оттуда, откуда его ожидали, не с запада, а с севера и северо-востока, и в один день все уры, доты и дзоты оказались ненужными. После прорыва немцами фронта под Харьковом и в Донбассе южные и юго-западные армии отходили к Сталинграду и к Ростову. У левофланговой армии оказался открытым тыл, и она тоже должна была отступить, снявшись с укрепленного рубежа, на котором можно было обороняться не месяц и не два.
В грохоте моторов и колес почти не слышно было голосов людей. Они шли и ехали на повозках и машинах в сплошной туче пыли. Смешиваясь с потом, она застывала у них на лицах серой коркой.
Два солдата, идущие в самом хвосте роты капитана Батурина, тоже молчали. Отстали они потому, что один из них натер ногу. Он шел, сняв с себя гимнастерку, обнажив худые, еще полудетские плечи и грудь. Держался он правой стороны дороги, подставляясь ветру с моря. Его товарищ шел слева, почти касаясь стены пшеницы. Он был на полголовы ниже первого и шире его в плечах. Вылинявшая гимнастерка на спине его пропотела, между лопатками выступили темные круги.
— Ч-черт! — Высокий солдат, сев дорогу прямо в пыль, стал стаскивать с ноги сапог. — Век бы не видал.
Размотав портянку, он снова стал обертывать ею ногу.
— Не так, — останавливаясь и наблюдая за ним, сказал товарищ. — Ты, Петр, опять угол завернул. Погоди-ка. — Он присел на корточки и стал обматывать его ногу портянкой. — Во-от, — сказал он вставая, и они снова пошли по дороге. — Теперь лучше?
Петр рассеянно кивнул головой, и они опять замолчали. Петр думал о том, что он теперь с каждым шагом будет все больше и больше удаляться от матери и сестренки, которые оставались в Таганроге. Они остались там еще с прошлого года. Когда зимой фронт снова придвинулся к Таганрогу, у Петра появилась надежда, что он скоро сможет их увидеть. Но теперь надежда рушилась, после того как армия снова начала отступать. После зимы, проведенной в работе по укреплению рубежей на Миусе и Самбеке, это новое отступление представлялось ему чудовищно бессмысленным и нелепым.
— Не понимаю и никогда не смогу понять, Андрей! — с ожесточением заговорил Петр.
Андрей не ответил. Ему встреча с родными предстояла впереди. Хутор, из которого уходил он на фронт, лежал выше по Дону. Вечером, когда рота остановилась на ночлег, Петр спустился к морю. Оно уже замерцало в темноте знакомым ему зеленоватым светом. Где-то западнее Матвеева Кургана разрасталось зарево. Оттуда тянуло горелым хлебом.
Андрей выстирал в море свою пыльную, прогорклую гимнастерку, с двумя котелками сходил к кухне за кашей и позвал Петра. Сразу же после ужина он ушел в пшеницу и долго лежал там без сна, слушая треск кузнечиков и шелест колосьев.
Как видно, до этого рыболовецкая бригада была хозяином на большой косе, на которой теперь рота расположилась на ночлег. Грузила натянутых между кольями сетей светились в темноте. Сырость, проступавшая сквозь плащ-палатки, на которых лежали солдаты, хорошо холодила после знойного дня. Переговаривались друг с другом совсем тихо.
— Пахнет ка-ак!
— Теперь пчела уже на подсолнух летит.
— А у нас пшеница только в трубку вышла.
Иногда от Таганрога докатывался гул, и потом опять как будто кто-то настойчиво ломом долбил. Белые, красные, желтые отсветы пробегали по лицам солдат. Но они, будто заключив между собой молчаливое соглашение, говорили о другом.