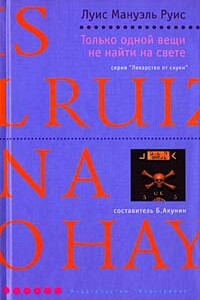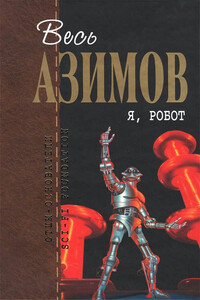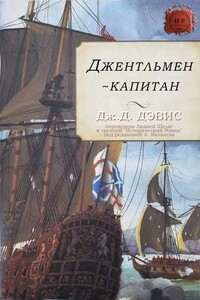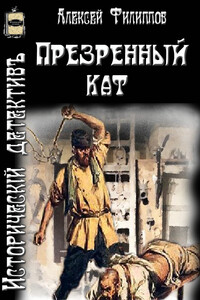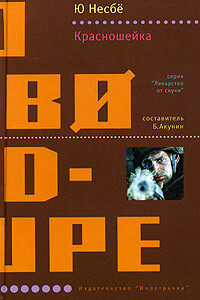Чтобы узнать город, подумала она, надо прежде выпотрошить его, оставить совсем пустым. Иначе на сетчатке глаза отпечатается лишь что-то вроде процесса обмена веществ, и город будет заслонен привычным мельканием человеческих лиц, машин, автобусов с набитым брюхом, хлопаньем оконных занавесок, похожих на веки над глазами-окнами, — словом, всем тем, с чем мы ошибочно отождествляем город, хотя на самом-то деле он лишь покорно все это в себя принимает. Чтобы понять город, решила она, как и для того, чтобы испытать дружбу, нужно молчание, нужна тишина; ведь порой мы чувствуем, что не можем по-настоящему понять человека, пока он рядом. Поэтому город, который теперь распростерся перед ней, вернее, окружал ее, подобно скорлупе, и открывался взору веером зданий в стиле XVIII века, дробился и множился колоннами, балюстрадами, цоколями, фронтонами, крышами, — этот город был куда реальнее, чем все те блеклые города, где она до сих пор успела побывать и чей облик непоправимо искажался магазинами, потоками машин, толпами обитателей, а также туристов с путеводителями в руках. Но этот город — а лучше сказать, его серо-голубой остов — властно притягивал ее взгляд, он был пуст, и оттого его очевидность становилась веской, как грубая прямота оскорбления. Ей даже стало казаться, будто все эти проспекты и бульвары — продолжение ее собственных рук и ног, будто ближайшие тротуары принадлежат только ей, как ее собственные зубы или ногти. У нее даже мелькнула мысль, что пустынный город — это символ или скрытый намек на некую истину, которую она сама некогда утратила или нарочно запихнула в самый темный закуток памяти и не желает оттуда извлекать. Она возлюбила этот город за его гулкую тайну — такой тайной дышат зеркала, или слова на чужом языке, или ночной мрак накануне самых важных событий. Она боялась этого города, потому что зачарованность тайной всегда и неизбежно оборачивается страхом, ведь чудовища пугают нас именно своей притягательностью. Алхимия смутных ощущений заставляла кровь мчаться быстрее, волна за волной, к усталому сердцу: ей показалось, что с каждым ударом, с каждым выбросом крови из мускульной сумки по городу тоже прокатывает новая волна — горячая, беззвучная — с вкрадчивым коварством вечерних сумерек. Она поверила, что пустой город — это часть ее самой, столь же неотторжимая, как зеленые глаза или неумение гладить рубашки; и что сейчас некая энергия, которой невозможно подыскать имени и которая зарождается где-то на уровне ключицы, проходит через все тело и соединяет ее с городом, плетя тончайшую и вездесущую сеть незримых корней. И тогда она шагнула вперед, ринулась навстречу неведомому, раздирая один за другим покровы памяти. И совершенно ясно увидела: бульвар, желтые часы и площадь с бронзовым ангелом в центре.
Визиты к Маме Луисе всегда были похожи на шахматные партии, которые разыгрываются вслепую и потому полны ловушек; вернее, это были партии вовсе безо всяких правил: Мама Луиса жестоко забавлялась и словно испытывала терпение и выдержку гостей. Никто и никогда не мог угадать, с какой стороны на них обрушатся вопросы или комментарии Мамы Луисы; и, казалось, она коварно потирает руки, поразив собеседника метким выстрелом — запретным словом, бестактным замечанием или намеком на что-то, что остальные старались вежливо обходить молчанием. Иначе говоря, ни один вечер в гостях у Мамы Луисы не прошел спокойно. Разумеется, ее тайные маневры выбивали Алисию из колеи — после гибели Пабло и девочки она даже решила на некоторое время прервать отношения с Мамой Луисой и месяца два-три не появляться в мрачной квартирке на улице Франкос, где старуха медленно угасала, терзаемая диабетом и катарами. Но иногда, в редкие часы покоя и благоразумия, вдруг подаренные ей тоской и отчаянием, Алисия уступала телефонным мольбам Эстебана: ты несправедлива, ведь Мама Луиса потеряла сына и внучку, она чахнет от старости и горя, ты ее невестка и должна хотя бы из жалости протянуть ей руку, посидеть рядом — пусть с вымученной улыбкой, пусть с каменным лицом, — выпить с ней кофе, стерпеть слова, которые, словно осы, слетают со старческих губ, невольную жестокость ее воспоминаний — о детстве Пабло, о его серых глазах, унаследованных от отца, о том, как он любил взбитые белки с сиропом — ах, и бедная Росита их обожала, царствие ей небесное! Лабиринты Мамы Луисы были настолько запутанными, что никто не сумел бы составить их план, и когда Алисия, сидя в кресле, вытканном блеклыми цветочками, разглядывала шеренгу фотографий, с которых на нее в свою очередь смотрели сыновья, невестки и внуки Мамы Луисы, она знала, что скоро у нее начнет жечь под веками, а во рту и в желудке появится вкус пепла — неизбежная реакция на определенного рода воспоминания. Иногда же Мама Луиса начинала вполне расчетливо тасовать имена, словно речь шла о мерах гигиенической профилактики, иначе говоря, она откладывала в сторону те фрагменты прошлого, что были отравлены присутствием умерших. Тогда вечер проходил вполне сносно — за обсуждением планов на лето, совершенно, впрочем, несбыточных, и рецептов клубничного торта. Эстебан почти всегда сидел тут же, прятался в клубах табачного дыма и наблюдал за по-самаритянски спокойной Алисией, за тем, как она сжимает кулаки, пока ногти не вопьются в ладони, когда Мама Луиса, злоупотребляя привилегиями, которое дает старческое слабоумие, осыпала невестку дежурными упреками. Он старался смягчить удары и менял тему разговора. Честно сказать, порой Эстебан и сам ругал себя за то, что тащит Алисию в дом свекрови: эти встречи не только не помогали ей хоть немного отвлечься, наоборот, они царапали душу — и его душу, кстати, тоже. Он догадывался, что Алисия, которая в последнее время с трудом удерживалась на краю депрессии, больше всего нуждается в тишине, а Маму Луису старость отметила душевной черствостью и глухотой к чужому горю. Зная Алисию, нетрудно было понять, как переживает она страшную катастрофу, во время которой в расплющенной машине в одночасье погибли Пабло и девочка, муж и дочь. Нетрудно было угадать и то, какие мрачные призраки населяли с тех пор ее ночи, ночи отчаяния и бессонницы.