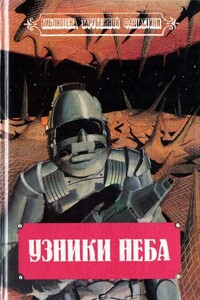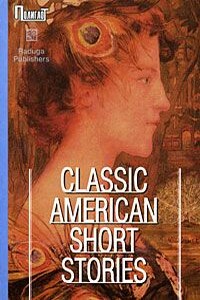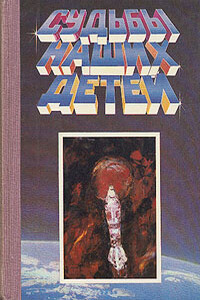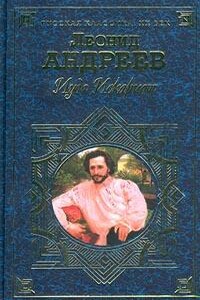Надо было вставать, — пора: сквозь тонкий сон Максим Семеныч слышал уже два раза праздничный трезвон, улавливал ухом смутный гомон толпы за окнами, чувствовал знакомый ему конский запах, — значит, наступило утро и день нынче базарный. Да, базарный: воскресенье… Но почему же Карась?
Ясно, отчетливо: Карась, несомненный Карась стоит перед ним, вчерашний, уехавший, — стоит, папироса около уха, рубаха расстегнута, из-за нее выглядывает шерстистый выпяченный живот, — несомненно — Карась. И узкие, старые брюки с зеленым кантом — его, под коленками собрались в гармонику, — и рыжая с серебром щетина на подбородке, и орлиный нос, и голос — его. И говорит вчерашнее, точь-в-точь как вчера, не очень связное, а интересное и милое, и, как вчера, от этой милой, бессвязной послеобеденной болтовни в сердце мягкая грусть и нежность, а за раскрытыми окнами далекий, мягкий крик грачей, теплое золото и прозрачная синева ясного предосеннего дня…
Оттого и не хотелось проснуться, стряхнуть этот полусон, в котором действительность мешалась с сонным видением и сон был ярче, осязательнее, чем явь, — глухой шум базара и церковный трезвон. Все размещалось как-то немножко странно, неожиданно, но убедительно и приятно, — так, как надо.
Карась, мечтательным взглядом смотря в потолок, в угол, говорил, а Максим Семеныч ласково кивал головой и чувствовал, как переполнялась его нежность к старому товарищу детства, с которым не встречались около двадцати лет.
— В прошлом году Нестерку встретил в Персияновке. На скачки с ним попали… вот в эту пору. Боковские выиграли — выпили по этому случаю. С нами был еще один, Фортунатов — фамилия. Писатель, кажется…
Порядочный писатель, но пьет мало… Выпили мы тут… ночь, луна… — В голоса Карася звучало умиление. — Девочки с нами… ни комарика, ни мушки… Пыль была, правда, но воздух свежий… Свою скачку устроили, сами наперегонки бегали… Бутылок двадцать выпили!..
— Ведь вот, в прошлом будто нечего и вспомнить, а как жаль… — Максим Семеныч грустно покивал головой, поддакивая своим каким-то мыслям, и спросил:
— Ну что Нестер? Как?
— Нестер? Да ничего! И деньги, и положение — чего ему не хватает? Только — декадент, с. с! Начнет со своими настроениями, умозрениями! «Шиповник алый, шиповник белый»… Плюшки-рюшки, веечки-подбеечки… Из-за баб плачет… Говорю ему, — да чего ты, черт паршивый? Живи ты по-кочетовому… по-арцыбашевски… и вся недолга!.. Так нет! — «Ты — говорит — животное».
Максим Семеныч рассмеялся. Хотелось обнять этого мягкого, большого человека и в порыве нежного дружеского расположения повторить:
— «Ты — животное!»
А Карась, возвращаясь к приятным воспоминаниям, продолжал, попыхивая папиросой:
— Был там один с нами… прямо — феномен! Три рюмки выпьет и — уснет! Через полчаса — опять трезвый! По натуре — трагик, — «пьете?» — Карась насупил брови и зарычал густым басом, — «да-а… пьете?..» Мрачный мужчина!.. Дадут ему еще, — тяпнет; ни закуски, ничего не признает. Свалится под стол, — через полчаса опять трезвый, лишь пыль с усов да с бороды обтирает…
А помнишь, Николушка, я надевал стихарь на студенческую тужурку и с благословения о. Федора говорил с амвона о вреде пьянства? — спросил радостно Максим Семеныч, отдаваясь во власть воспоминаний.
— Хорошо, кто веру имеет, — вздохнул Карась, поправляя штаны. — Но тогда ты издевался надо мной…
— Я издевался почему? — кротко возразил Карась, — в стихаре ты больше на исполатчика был похож, чем на студента ветеринарного института… Ну, и вечером за девками гонял, а тут — с амвона, — братие… аще, аще, что на свете всего слаще…
Было что-то трогательное и теплое и нежно-грустное в этих смешных бессвязных воспоминаниях. Вот этот стихарь, который он, Максим Карпов, надевал на студенческую тужурку, — Максим Семеныч кончил курс духовной семинарии и имел право на стихарь, — сколько он будил в памяти светлого, забавного и детски-отрадного, обвеянного легким, беззаботным смехом… Проповедь о вреде пьянства… старательное, широкое крестное знамение, волнение, запинки, каменные, загадочно-тупые лица мужиков, гордость покойного отца, старого дьячка Семена Силыча.
— Дар слова имеешь, брат! имеешь! — говорил он дома сыну, — зря в попы не пошел, был бы кафедральным… Вздумал в доктора. А пока до доктора-то дойдешь, сколько порток об лавку изотрешь…
Милый старик… Давно уж и нет его. Нет и других, близких и дорогих, — ушли… И многое ушло с ними. Молодость ушла — серая, тусклая, с бурсацкой проголодью и упорным старанием выбиться в люди, с самонадеянными мечтами и умеренным беспутством, — ушла… Давно уже — спокойная, сытая жизнь, прочно насиженное место, собственность: дом, сад…
Но порой томила смутная и тошная тоска. Тянуло воспоминанием к прошлому, скудному и голодному. И вспоминалось оно так тепло, нежно, грустно…
— Почему так жаль прошлого, Николушка? И в чем — в конце концов — смысл жизни?
— Смысл жизни? — с недоумением повторил Карась. — Ишь чего захотел!..
Он заложил ногу за ногу и грузно оперся спиной на косяк двери.
— Да, брат, это вопрос… И я тебе скажу, это не так просто… В чем суть?..
Он сдул пепел с папиросы, затянулся, прищурил глаза, соображая, с тем самым, знакомым Максиму Семенычу, выражением, какое, бывало, застывало на его лице, когда надо было решить роковой вопрос, с бубен или пик пойти.