А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… Ну, да и где ж не бывает несообразностей?
Н. В. Гоголь
Если глаза привыкли видеть завершенный круг горизонта, линию желтых песков, треугольные тени пирамид на песке пустыни, то первые две недели эти глаза с трудом привыкают к вычерченным по линейке улицам, к домам, облепленным вывесками контор и банков, к откровенно назойливым витринам мод.
Густав Корн, тридцатидвухлетний египтолог, автор труда «Барельефы с изображением богини Тауэрт» и «Сверхъестественные методы в египтологии», успокоился только тогда, когда вертящаяся дверь Коммерческого североэкспортного банка вытолкнула его к зеву большого лифта. Но даже и здесь, в кабине лифта, он не переставал судорожно прижимать к груди красный сафьяновый портфель, хотя, кроме дамы в трауре, никто не представлял опасности для сафьянового портфеля. Прищурив глаза, сторонясь человеческого потока, он прошел по галерее и, как в тихую пристань, свернул в дверь, над которой в мраморе стены гнездились золотые буквы:
Глухая, сдавленная тишина, как за непроницаемыми переборками броненосца. Матовые круглые шары и рядом газовые горелки (на случай, если перережут провод). Зеленовато-желтый смешанный свет над бюро и желтой лысиной старика в скромной, но внушительной форме. Под ковром ноги ощущали стальные плитки пола. Глаза упирались в ровные, серые, полированные стены, и только в одном месте, позади старика с лысиной, серая отполированная стена обнаруживала чуть заметный продолговатый прямоугольник, который казался дверью. По обе стороны двери на высоких табуретах сидели двое хорошо сложенных пожилых людей в позе, почти не обнаруживающей признаков жизни. Желтая, отражающая газовый рожок лысина откинулась кверху и под рядом горизонтальных морщин лба в сторону Корна повернулись тусклые глазки.
— Густав Корн.
— Знаю. Номер 24–14. Только вчера освободился. Размер подходит. Предупреждаю относительно хранения взрывчатых веществ. Безусловно воспрещено.
Затем человек за бюро перевернулся вокруг оси на круглом табурете, спрыгнул на пол и, звеня невидимыми ключами, присосался к двери. Дверь открывается с меланхолическим звоном, автоматически отскочив к стене. За ней решетка, которую отодвинули в сторону, и перед Густавом Корном открылись стальные катакомбы. То, что раньше показалось однообразным стенным узором из четырехугольников от пола до потолка, было стальными ящиками с почти незаметным отверстием замка и цифрой. Люди проходили узким коридором, отделенным от улицы стальными, залегающими над головой плитами, сдавленные спящими в стальных сотах сокровищами. Старик и сторож двигались неслышно в плоских резиновых туфлях, — сторож впереди, а старик позади Корна. Он медлил, перебирая ключи и, выбрав один с затейливой бородкой, постучал по ящику.
— Здесь вам будет удобно. Газовый рожок и лампа прямо над ящиком. Для непродолжительных занятий имеется особое помещение.
— Благодарю вас. Я бы не стал беспокоить, но необходимость… Чрезвычайно редкие экземпляры. Уникумы.
Замок щелкнул, и дверца открылась, обнаружив внутри ячейки стальной ящик. Старик отошел в сторону. Густав Корн осторожно открыл красный сафьяновый портфель.
Вокруг была тяжелая глухая тишина. От стальных стен пола и потолка шел холод.
Сначала Корн вынул одиннадцать разнообразных свертков в тонкой бумаге. Они падали один за другим в стальной ящик с металлическим звоном.
Он взглянул на список. Одиннадцать амулетов и бусин.
Затем шестьдесят два черепка, подобранных в Абидосе.
Затем восемь разнообразных по формату рукописей и пачка фотографий.
Все вместе было материалом к новому знаменитому труду Густава Корна «Предметы заупокойного культа архаического Египта».
Для этого Густав Корн пробыл два года и шесть месяцев в Египте и вывез, кроме перечисленных уников, перемежающуюся лихорадку и не поддающуюся лечению тропическую язву на левом локте.
Он закрыл внутренний ящик, затем захлопнул внешнюю дверцу и, уходя, с удовольствием взглянул на внушающую доверие гладкую стальную поверхность и выгравированный на металле номер: «24–14». Старик, увидев его, повернулся к бюро. В маленьком четырехугольном кожаном конверте он дал Корну бумаги, относящиеся к номеру 2414, и ключ.
— Я приду завтра.
Старик шумно захлопнул крышку бюро.
— Завтра и послезавтра — праздник. Рождество.
— Тогда, чтобы не терять времени, я возьму собой бумаги.
— Если профессору угодно…
Корн вернулся и, несколько торопясь, открыл ящик.
Рукописи из стального ящика вернулись в красный сафьяновый портфель.
Некоторые полагают, что романтическая натура находится в прямом несоответствии с карьерой археолога и соискателя ученой степени. Во всяком случае, это мнение большинства, а так как на принципе приоритета большинства построен ряд человеческих отношений, мы наблюдаем мед-леиное продвижение Густава Корна по пути к признанию и славе. Ему тридцать два года. Он сын рижского лесопромышленника, который затеял весьма крупную коммерческую операцию в июле 1914 года. Как известно, 18 июля 1914 года произошло некоторое событие, сильно помешавшее вывозу леса из России в Германию и превратившее рижского лесопромышленника Карла Корна сначала в банкрота, а спустя месяц в ссыльного в Ташкенте. Густав Корн, как принято в хороших немецких семьях, получал образование в Германии и, против обычая, не в академии коммерческих наук. Археологические изыскания Густава Корна были самым уязвимым местом его весьма положительного папаши, но надо же кому-нибудь заниматься археологией и, в конце концов, в будущем карьера ученого, академика и тайного советника ничуть не хуже карьеры коммерции советника и лесопромышленника. К настоящему горю Карла Корна, сын его в двадцать лет, если и тяготел к подземельям, то, главным образом, к таким, которые пре-вращадись усилиями способных предпринимателей в сухие и уютные винные погреба. Несколько суховатым мумиям он предпочитал достаточно округлые формы девиц без определенных занятий, и единственная клинопись, которой он занимался, были надписи, высекаемые им при помощи рапиры на лицах его коллег-корпорантов. Можно ли упрекнуть двадцатилетнего крепкого молодого человека, если он папирусам и манускриптам предпочитал занимательные тексты Гофмана, а трудам Всегерманского съезда египтологов предпочитал «Роман мумии» Теофиля Готье?



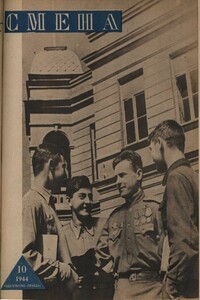






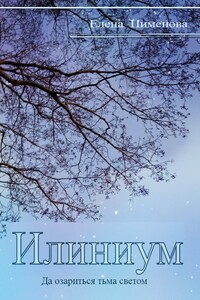



![Дуновение смерти [Сборник]](/storage/book-covers/b5/b5a4171c7cddbc4718bab079880789b6dad1d9a9.jpg)