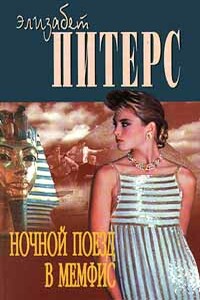Выдался холодный зимний день; снег падал, кружась в воздухе хлопьями; к ночи обещал усилиться мороз. Фонари зажгли рано и от сильного напора ветра, проносившегося подобно жужжанию стали, видно было через дребезжащие стекла их колеблющееся пламя. Только электричество горело ярким немигающим светом.
По одной из главных улиц шатающейся походкой приближалась женщина в отрепьях. Она отыскала большой дом и направилась к роскошной барской квартире в бельэтаже. Сильный ветер почти валил ее с ног, теребя лохмотья и забрасывая их комьями снега.
На ней надета была короткая ватная кофта, изорванная во многих местах и залатанная цветными лоскутьями, черная юбка с отрепанным, висевшим бахромой подолом. Ковровый платок окутывал обрюзгшее морщинистое лицо с выбившимися на лбу космами седых волос.
Она взошла на парадное крыльцо, взглянула на прибитую медную дощечку, где витиеватыми инициалами было вырезано: «Стратон Артемьевич Мумиев, профессор хирургии», причем вслух повторила имя и фамилию и вступила в обширный вестибюль.
На стуле, с газетой в руках, сидел швейцар.
— Что тебе? — спросил швейцар.
— Мне нужно видеть Мумиева, — твердо произнесла женщина.
— Профессора Мумиева? — внушительно переспросил швейцар. — Он таких больных, как ты, принимает только в клинике.
— Я не больная, а знакомая его.
Швейцар подозрительно оглядел ее с ног до головы. Женщина имела гордый, внушительный вид, говорила с апломбом; повелительные ноты звучали в ее голосе. Все это повергло его в недоумение… Но кто их разберет! Попрошайки ведь разные бывают; и он проговорил:
— Все-таки вас впустить не могу.
— Не думайте, что я пришла за милостыней, уверяю вас. Мумиев меня хорошо знает и непременно примет. Не всегда же он жил в таких хоромах. Да вот вам доказательство.
Она порылась в кармане и вытащила оттуда вместе с пачкой нюхательного табаку засаленный конверт, достала из него фотографическую карточку какого-то длиннолицего юноши с приятной улыбкой на красиво сложенных сердечком губах, оттененных мягкими, пушистыми усами.
— Видите, — сказала женщина. — Теперь прочтите подпись на оборотной стороне.
Тот уклонился. Взглянув мельком на фотографию, швейцар улыбнулся, откашлялся и указал на дверь, говоря:
— Звоните, там человек проводит.
Женщина, довольная произведенным эффектом, запрятала фотографию и сказала:
— Без меня ему вряд ли выбраться в люди. Что он, важничает?
— Есть немного, — отвечал швейцар, не без сочувствия слушавший женщину.
— Мне с ним церемониться нечего. Посмотрю, как он меня примет, — с этими словами она нажала пуговку электрического звонка.
Дверь сейчас же поддалась и угреватая физиономия молодого лакея, пересмеивающегося с пробегающей горничной, проглянула из передней.
— Завтра в клинику. Сюда только господа ходят, — заявил было он.
Посетительница объяснила ему почти тоже самое, что и швейцару, только к вещественному доказательству ей не пришлось прибегнуть, так как она рассыпала табак и закашляла.
— Подождите, — сказал слуга.
Она вступила в большой зал с позолоченными зеркалами, стульями и роскошными тропическими растениями в кадках и вазонах на мраморных тумбах.
На стульях сидело до десятка пациентов обоего пола.
Быть может, невольно, в силу старой привычки, женщина подошла к зеркалу, где во весь рост отразилась ее грузная, тяжеловесная фигура в лохмотьях. От туфель ее остались мокрые следы на паркете. Оглядев себя внимательно в зеркало, она покачала головой, присела в кресло, не то задумалась, не то задремала, а, может быть, предалась и воспоминаниям прошлого.
Тепло благотворно подействовало на нее: синева пропадала с лица и оно делалось изжелта-бледным. Она терпеливо выжидала, пока посетители один за другим перебывали в кабинете профессора, потом одевались и уходили. Некоторым из них слуга подобострастно накидывал шубы, ротонды и отворял двери.
— Все уже? — раздался из-за дверей кабинета резкий, пронзи тельный голос, от которого женщина вздрогнула и поднялась с кресла.
— Еще старушка какая-то дожидается, — доложил слуга.
— Приемные часы окончены… Завтра в клинике, — недовольным тоном произнес профессор и вышел в залу.
Он был довольно высок ростом, худощав, с длинным, как бы вытянутым лицом, глазами навыкате и черными, как смоль, слегка подфабренными усами. Всю физиономию скрашивали ярко-пунцовые сочные губы, при виде женщины в лохмотьях искривленные гримасой недоумения.
— Что это? Кого ты впустил? — строго крикнул он лакею.
Она стояла точно окаменелая, жадно вперив ненасытный взгляд больших, глубоко впавших глаз в лицо Мумие-ва. Но при возгласе последнего вздрогнула, будто от удара хлыста.
— Это я, — сказала она, подступая ближе к нему: — не узнаешь меня, Стратоша? Немудрено, голубчик: двадцать лет прошло, двадцать лет, — повторила она тоном невыразимого сожаления. — Видишь, какая я стала страшная. Меня действительно теперь трудно узнать. А ты, право, Стратончик, выглядишь молодцом, так что я на старости лет опять не прочь в тебя влюбиться.
О, как ты коварно поступил тогда со мной, когда бежал в X.! Но я так добра, что все забыла и простила тебе, Стратончик. Я ведь очень была добра, всегда добра…