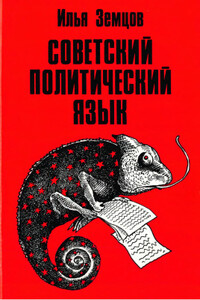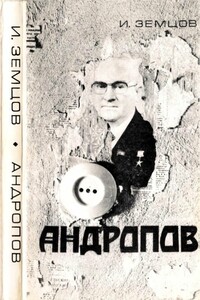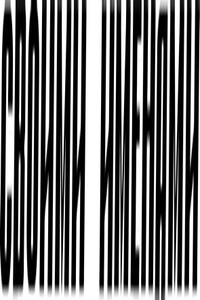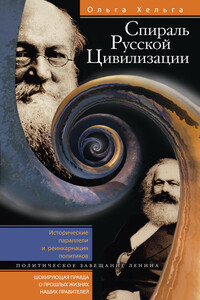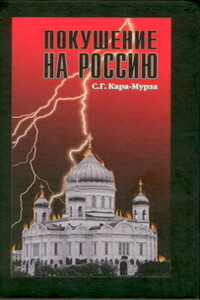"Предназначением новояза было не только служить инструментом для выражения мировоззрения и мысли… но и сделать все иные формы мышления невозможными".
Джордж Орвелл
Советский язык — явление уникальное. Его нельзя сводить ни к политическому слою русского языка, ни к одной из разновидностей бюрократического лексикона, хотя исторически он, несомненно, возник на основе последнего. Целиком национализированный государством, советский язык насаждается и культивируется коммунистами как универсальный заменитель русского языка. Он постепенно проникает во все сферы духовной деятельности человека — литературу, искусство, науку. Семантика этого языка отражает не социальную реальность, а идейное мифотворчество; она выявляет не объективные общественные процессы и явления, а коммунистическое мировоззрение в его наложении на действительность.
Советский политический язык однозначен. Но, деля мир на полярные субстанции добра и зла, он в то же время и двусмыслен. Эта двусмысленность — следствие двойственности советской социальной системы: социалистической формы, обращенной к внешнему миру, и тоталитарной сущности, направленной к собственным народам. Слова и выражения советского языка, действующие на уровне бессознательной психики, превращаются в сжатые пружины политического манипулирования: с их помощью в человека вгоняются заряды идеологической энергии. Реальность проектируется по законам вымысла: рабство объявляется свободой, ложь — истиной, война — миром и т. д.
Советский политический язык основывается на двух основных компонентах: фикциях, которые коммунистическая философия провозглашает реальностью, и реалиях, представляемых в вице фикций. Отсюда — два различных (но не противоположных) пласта в советском языке. Во-первых, слова-явления, опирающиеся пусть на искажаемые, но существующие факты и процессы советской действительности ("встречный план", "доска почета", "колхоз", "очковтирательство", "анонимное письмо" и т. п.). Во-вторых, слова-фикции, передающие понятия, лишенные всякого социального смысла ("авангард", "боевитость", "внутрипартийная демократия", "дружба народов", "горизонты", "идейность" и пр.).
Поскольку в основе слов-явлений лежат определенные и всегда конкретные социальные факты, это затрудняет, а порой и делает невозможным их безграничное домысливание. Слова-фикции — это в известном смысле духовные "полуфабрикаты", задающие лишь направление для работы воображения. Дорисовывая их нужными (в зависимости от политической конъюнктуры) социальными красками, власти стремятся сохранить их недосказанность — для последующего манипулирования. Новая манипуляция почти наверняка будет отличаться от старой (жизнь не стоит на месте), но все они строго регламентированы коммунистическим мировоззрением, располагающим весьма ограниченным числом идеологических конструкций.
Слова-явления представляют собой более или менее постоянные формулы действительности и не распадаются при соприкосновении (или даже столкновении) с реальностью, ибо разложение (или хотя бы девальвация) заложенных в них идейных стереотипов означала бы крушение коммунистического мировоззрения. Вспомним, с каким завидным постоянством советский язык насаждает идеи "атеистического воспитания", "коммунистической морали", "коллективного руководства" и т. п.
Слова-фикции ("гегемония пролетариата", например) — чрезвычайно пластичны, они способны оперативно "откликаться" на любое изменение политической и социальной ситуации. Если один из компонентов такого словосочетания теряет свою эффективность, его тут же "вынимают" и заменяют другим, больше отвечающим задаче воздействия на массовое сознание (так "гегемония пролетариата" превращается в "гегемонию народа"). При этом традиционное назначение понятия, разумеется, сохраняется: и "гегемония пролетариата", и "гегемония народа" в равной мере камуфлируют самовластие партийного аппарата.
При острых социальных коллизиях содержание слов-фикций меняется радикально. Примеры: замена "диктатуры пролетариата" "общенародным государством"; вариации с выражением "образ жизни" — "пролетарский", "советский", "социалистический" и, наконец, "коммунистический образ жизни". Манипулирование словами-явлениями в определенной мере ограничено их "привязанностью" к конкретному социальному опыту. В этом смысле слова-фикции, в силу своей абстрактности, подвижности и продуктивности, предоставляют советской пропаганде практически неограниченные возможности, хотя и они отнюдь не всегда являются искусственными образованиями. Исторически появление известного числа слов-фикций отражало возникавшие (но так и не возникшие) социальные явления; лишь впоследствии они были идеологизированы. Напротив, некоторые слова-явления первоначально формировались в рамках коммунистической идеологии и уже затем продуцировались в социальную жизнь.
Естественно, что оба эти слоя советского языка не разделены непроницаемой перегородкой. Слова-явления при определенных условиях (когда явление полностью изживает себя) исчезают или превращаются в слова-фикции; слова-фикции в ходе идеологического конструирования действительности начинают отражать реальность. Однако в конечном счете и те и другие различаются лишь ракурсом идеологического манипулирования. В первом случае (слова-явления) действительность накладывается на идеологию, во втором (слова-фикции) — идеология накладывается на действительность. Понятно, что усилия коммунистической пропаганды направлены на поддержание стабильности слов-явлений и обновление слов-фнкций.