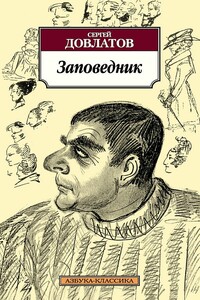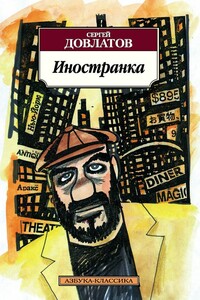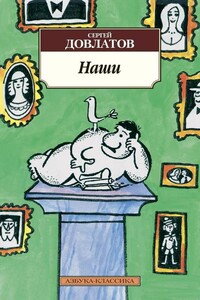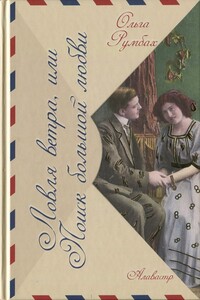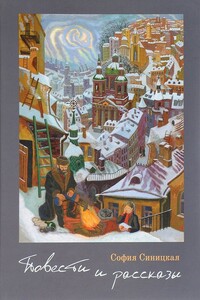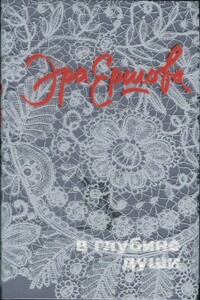Вышла как-то мать на улицу. Льет дождь. Зонтик остался дома. Бредет она по лужам. Вдруг навстречу ей алкаш, тоже без зонтика. Кричит:
— Мамаша! Мамаша! Чего это они все под зонтиками, как дикари?!
Соседский мальчик ездил летом отдыхать на Украину. Вернулся. Мы его спросили:
— Выучил украинский язык?
— Выучил.
— Скажи что-нибудь по-украински.
— Например, мерси.
Соседский мальчик: «Из овощей я больше всего люблю пельмени…»
Выносил я как-то мусорный бак. Замерз. Опрокинул его метра за три до помойки. Минут через пятнадцать к нам явился дворник. Устроил скандал. Выяснилось, что он по мусору легко устанавливает жильца и номер квартиры. В любой работе есть место творчеству.
— Напечатали рассказ?
— Напечатали.
— Деньги получил?
— Получил.
— Хорошие?
— Хорошие. Но мало.
Гимн и позывные КГБ: «Родина слышит, родина знает…»
Когда мой брат решил жениться, его отец сказал невесте: — Кира! Хочешь, чтобы я тебя любил и уважал? В дом меня не приглашай. И сама ко мне в гости не приходи.
Отец моего двоюродного брата говорил: — За Борю я относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме!
Брат спросил меня:
— Ты пишешь роман?
— Пишу, — ответил я.
— И я пишу, — сказал мой брат, — махнем не глядя?
Проснулись мы с братом у его знакомой. Накануне очень много выпили. Состояние ужасающее.
Вижу, мой брат поднялся, умылся. Стоит у зеркала, причесывается.
Я говорю:
— Неужели ты хорошо себя чувствуешь?
— Я себя ужасно чувствую.
— Но ты прихорашиваешься!
— Я не прихорашиваюсь, — ответил мой брат. — Я совсем не прихорашиваюсь. Я себя… мумифицирую.
Жена моего брата говорила: — Боря в ужасном положении. Оба вы пьяницы. Но твое положение лучше. Ты можешь пить день. Три дня. Неделю. Затем ты месяц не пьешь. Занимаешься делами, пишешь. У Бори все по-другому. Он пьет ежедневно, и, кроме того, у него бывают запои.
Диссидентский указ: «В целях усиления нашей диссидентской бдительности именовать журнал «Континент» — журналом «Контингент»!»
Хорошо бы начать свою пьесу так. Ведущий произносит:
— Был ясный, теплый, солнечный…
Пауза.
— Предпоследний день…
И, наконец, отчетливо:
— Помпеи!
Атмосфера, как в приемной у дантиста.
Я болел три дня, и это прекрасно отразилось на моем здоровье.
Убийца пожелал остаться неизвестным.
— Как вас постричь? — Молча.
«Можно ли носом стирать карандашные записи?»
Выпил накануне. Ощущение — как будто проглотил заячью шапку с ушами.
В советских газетах только опечатки правдивы. «Гавнокомандующий». «Большевистская каторга» (вместо — «когорта»). «Коммунисты осуждают решения партии» (вместо — «обсуждают»). И так далее.
У Ахматовой когда-то вышел сборник. Миша Юпп повстречал ее и говорит:
— Недавно прочел вашу книгу.
Затем добавил:
— Многое понравилось.
Это «многое понравилось» Ахматова, говорят, вспоминала до смерти.
Моя жена говорила: — Комплексы есть у всех. Ты не исключение. У тебя комплекс моей неполноценности.
Когда шахтер Стаханов отличился, его привезли в Москву. Наградили орденом. Решили показать ему Большой театр. Сопровождал его знаменитый режиссер Немирович-Данченко. В этот день шел балет «Пламя Парижа». Началось представление.
Через три минуты Стаханов задал вопрос Немировичу-Данченко:
— Батя, почему молчат?
Немирович-Данченко ответил:
— Это же балет.
— Ну и что?
— Это такой жанр искусства, где мысли выражаются средствами пластики.
Стаханов огорчился:
— Так и будут всю дорогу молчать?
— Да, — ответил режиссер.
— Стало быть, ни единого звука?
— Ни единого.
А надо вам сказать, что «Пламя Парижа» — балет уникальный. Там в одном месте поют. Если не ошибаюсь, «Марсельезу». И вот Стаханов в очередной раз спросил:
— Значит, ни слова?
Немирович-Данченко в очередной раз кивнул:
— Ни слова.
И тут артисты запели.
Стаханов усмехнулся, поглядел на режиссера и говорит:
— Значит, оба мы, батя, в театре первый раз?!
Как известно, Лаврентию Берии поставляли на дом миловидных старшеклассниц. Затем его шофер вручал очередной жертве букет цветов. И отвозил ее домой. Такова была установленная церемония. Вдруг одна из девиц проявила строптивость. Она стала вырываться, царапаться. Короче, устояла и не поддалась обаянию министра внутренних дел. Берия сказал ей:
— Можешь уходить.
Барышня спустилась вниз по лестнице. Шофер, не ожидая такого поворота событий, вручил ей заготовленный букет. Девица, чуть успокоившись, обратилась к стоящему на балконе министру:
— Ну вот, Лаврентий Павлович! Ваш шофер оказался любезнее вас. Он подарил мне букет цветов.
Берия усмехнулся и вяло произнес:
— Ты ошибаешься. Это не букет. Это — венок.
Хармс говорил: — Телефон у меня простой — 32–08. Запоминается легко. Тридцать два зуба и восемь пальцев.
Плохие стихи все-таки лучше хорошей газетной заметки.
Дело было на лекции профессора Макогоненко. Саша Фомушкин увидел, что Макогоненко принимает таблетку. Он взглянул на профессора с жалостью и говорит:
— Георгий Пантелеймонович, а вдруг они не тают? Вдруг они так и лежат на дне желудка? Год, два, три, а кучка все растет, растет…
Профессору стало дурно.
Расположились мы с Фомушкиным на площади Искусств. Около бронзового Пушкина толпилась группа азиатов. Они были в халатах, тюбетейках. Что-то обсуждали, жестикулировали. Фомушкин взглянул и говорит: — Приедут к себе на юг, знакомым будут хвастать: «Ильича видали!»