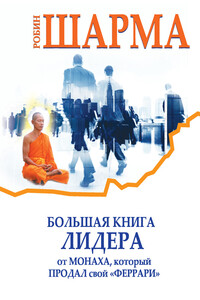Когда Любка Александрова собралась замуж, мать ее, военная вдова и до срока старуха, не раз гонялась за младшей дочерью по огороду, а обессилев, садилась на крыльцо и тихонько бесслезно выла:
— Телка ты, телка. Сучья ты дочь. Он же старо-ой. Веку не скорота-а-ешь.
Ошибалось материнское сердце. Промелькнул Любкин бабий век в двадцать лет как один день и будто у Христа за пазухой.
В другой день все это кончилось. Схоронила Любка своего Никифора Степановича Осипова, единственного в районном городе Молвинске моржа, и такая ее грусть взяла, мочи нету. С неделю ходила по пустой без сизого голубя крестовухе, а потом написала старшей сестре Нинушке, самой близкой теперь родне: пусть приезжает, лето в начале, грибы-ягоды скоро грянут.
Ворота усадьбы Осиповых поставлены на трех могутных столбах, между плахами ни щели, по верху крыша двускатная. Будто очередь пулеметная прошила ворота в то утро. Задрожали они, басом ойкнули, распахнулась легко массивная калитка.
Первой входит сестра Нинушка, в цветастом шелковом платье, испарина на высушенном до бордовости лице. Перекинув с руки на руку большую, затейливого плетения, с боку дырявую корзину, охрипшим от пыльной дороги голосом утверждает:
— Схоронила.
Вдова молчит. На похороны она сестру не звала. Та страдает сердцем и переживаний избегает.
— Женихов, поди, Любка? — Сестра опускает корзину на землю.
Любка вспоминает, что она Любка, но опять ничего не отвечает. Она смотрит на ворота. Из них в ограду все входят и входят: дочь сестры Людмила, медлительная, с застывшей улыбкой на лице, за Людмилой двое ее пятилетних двойнят, один с палкой, другой с шишкой во рту; десятилетняя Валька, внучка сестры от другой дочери, тащит большой чемодан.
— Женихов, поди, говорю? — Усевшись на крыльцо, сестра тяжело дышит. — Тако богатство.
Просторная квадратная ограда кудрявится конотопкой. Алеют в темной зелени выложенные кирпичом дорожки. По одной стороне ограды во всю ширь стоят ворота. Другую занимает дом. По остальным двум добротные хозяйственные постройки и баня.
— Какое богатство. — Любка улыбается, глядя на детей, сквозь нежданную влагу на глазах они кажутся ей порхающими по конотопке бабочками.
— Како богатство. — Сестра обводит рукой окрест. — Домина. Скотины полон двор. Машинешка. Не сдумай. Мужики знашь каки нынче. Вон, гляди. — Она тычет пальцем в десятилетнюю Вальку.
Та воркует с парнишками, пытаясь унять разгоревшуюся из-за шишки ссору. После слов бабки орет на них, раздает обоим по затыльнику и, насупясь, принимается вышагивать по алым кирпичам дорожки.
Палит солнце. Сорокалетняя Любка, для мужа все годы Любовь Васильевна, в первый раз после похорон вспоминает про полный запасами погреб и про то, как прохладно и чисто в ее доме.
Построенный самолично Никифором Степановичем еще при первой жене, крестовик поделен на две неравные части: в большой кухня и горница, в меньшей теплые сени и чулан.
Людмилу с ребятами и Вальку хозяйка тут же поселяет в обставленной стараниями Никифора Степановича по-современному горнице. Людмила сразу ложится на супружескую кровать и не встает до самого ужина. Ребятам спанье устраивают на широченном диване. Вальке достается коврик, смягченный поролоновым матрацем.
Сестры устраиваются на кухне. Для Нинушки принесена из чулана вышедшая из моды никелированная кровать с шарами. Хозяйке остается топчан у печи, когда-то главный предмет ее приданого.
В хлопотах и радостном волнении пролетает для Любки остаток дня. Вечером она долго не может заснуть. От печи жарко. Несмотря на лето, ее пришлось протопить. Еще в дороге Нинушка наблазнила двойнят не виданными ими блинами, и, войдя в дом, они устроили такой концерт, что Любка тут же сбегала за дровами.
Светит в окошко белая ночь. С фотографии на столе улыбается своей задорной улыбкой Никифор Степанович. В двух шагах громко храпит Нинушка. Сонные двойнята сладко причмокивают в горнице. Валька ворочается и стонет. Любка встает, на цыпочках идет в горницу, открывает створку, поднимает упавшую подушку и кладет под голову одного из двойнят, поправляет одеяло на Вальке. Вернувшись на топчан, она успокоенно потягивается, тонкое одеяло сползает к ее ногам. Из открытой створки от горницы идет прохлада, наполненная сладким ребячьим запахом.
Через три дня усадьбу Осиповых трудно узнать. То есть в целом все почти как раньше: крепкие ворота, выкрашенный в голубое забор, дом, с годами будто молодеющий: золотистые бревна лоснятся, ставни резные, стекла окон блестят до прозрачности. Только в горнице одного стекла уже нет. Ворота и забор исчерканы разноцветным мелом. Цветы в палисаднике вытоптаны. Заломлена пара ветвей у черемухи.
Любка всю жизнь проработала санитаркой в больнице. Звали, бывало, взять еще полставки. Она отвечала словами Никифора Степановича: ради денег-то, счастье мое? После похорон сама напросилась. Теперь приходила домой поздно. На кухонном столе горой была свалена посуда. Все, что можно рассыпать по полу, рассыпано. Половики были сняты в первый же день. Двойнята запинались за них, торкались об пол, почему-то обязательно головами, и орали благим матом, а у Любки от испуга за них заходилось сердце.