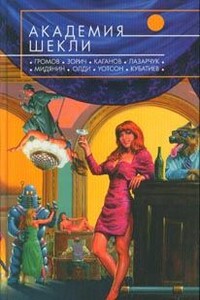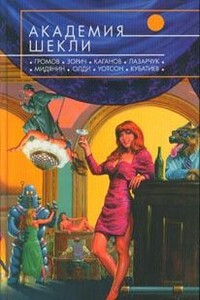— Кш, мелочь. — Мимоходом распинывает кормящуюся у дороги стайку голубей солидный мужчина, он в распахнутой дубленке, сдвинутой на затылок норковой шапке, ноги в раскисший весенний снег ступают тяжело.
Голуби разлетаются. Но не все. Один лилово-серый комок, перевернувшись во влажном холодном воздухе, шлепается плашмя в снеговую жижу, замирает, выпустив сверкнувший на солнце хрупкий веер крыла.
— Ах ты, гад! — Догоняет солидного мужчину другой, высокий, худой, в телогрейке. — Стой! — Хватает за плечо и поворачивает к себе.
Не ожидая ничего подобного, солидный мужчина, поскользнувшись, падает, но тут же резко и быстро, как пружина, поднимается и хватает высокого за грудки.
Возле них останавливается проходящий мимо милицейский «уазик», чуть раньше — запыхавшаяся пожилая женщина в темно-синем, прямого покроя, болоньевом пальто. Женщина, вскинув руки, вцепляется в спину солидного мужчины. Выскочивший из машины младший лейтенант милиции заламывает руки высокому.
Солидный мужчина, одним движением сбросив с себя женщину, начинает отряхиваться, выражая возмущение довольно крепкими словами. Выпущенный лейтенантом высокий растирает торчащие из коротких рукавов телогрейки руки.
— Григорьевна? — Он удивленно оглядывается на женщину.
— Что произошло, Пал Петрович? — спрашивает солидного лейтенант.
— А ты у него спроси. — Тот кивает на высокого, задирает рукав дубленки, смотрит на часы. — Сволочь. На комиссию из-за него опоздал.
— Кто сволочь, кто? — пронзительно кричит высокий. — Ты туда погляди, туда. — Он кивает на лежащего в стороне голубя. — Разобраться надо, кто сволочь.
Солидный и лейтенант оглядываются и ничего не видят.
— И разберемся, — говорит лейтенант. — Марш в машину! Поедете, Пал Петрович?
— Ну да. — Солидный усмехается. — Век мечтал вместо райисполкома к вам попасть. Без меня разберешься.
У машины происходит замешательство.
— Ты куда, бабка? — Лейтенант отталкивает от дверцы женщину.
— С вами я. — Она подныривает под его руку.
— Да нужна ты! — Лейтенант пытается вытащить ее из машины. — Выходи, сказал.
— Не выйду. — Женщина вцепляется в сиденье обеими руками. — Свидетельница я. С самого начала все видела.
В милиции, кратко пересказав происшедший на его глазах инцидент, младший лейтенант передает задержанного и свидетельницу дежурному сержанту.
— Фамилия, имя, отчество, — начинает допрос молодой сержант, черные усы скобочкой.
— Георгий он, Николаевич, — отвечает женщина. — Я ведь и фамилии твоей не знаю, — словно чему-то радуясь, обращается она к высокому.
— Слушай, бабка, — обрывает ее сержант, — или молчи пока, или выставлю.
— Ты как с женщиной разговариваешь? — Высокий встает.
— Сидеть! — кричит, вскакивая, сержант.
— Ребята, да что же вы, ребята. — Женщина бросается между ними. — Вы же молодые ребята, — уговаривает она их, обращаясь больше к сержанту. — Ты, Гена, Стюры Новиковой сын, двадцать лет мы с ней вместе на заводе отработали.
— Я при исполнении, — бормочет сержант.
— Ну-к что ж, — еще горячее убеждает его женщина. — Ты же видишь, в волнении человек, пусть охолонет маленько. Я тебе пока расскажу.
— Ну, — соглашается сержант, — валяйте.
— Я по улице Тополиной живу, — начинает она. — Два двухэтажных дома из бруса, знаешь? Бараками их зовут, кто бараков не видел. Новый-то город до войны начали строить. Не помнишь. Благоустроенное хотели сделать народу жилье. А тут война. Ни воды не провели, ни отопления. Зато комнаты большие, светлые. Меня Зоей Григорьевной Личуткиной зовут, запиши. Седьмой год уж я на пенсии. На втором этаже моя комната, окнами на юг.
— Короче, — обрывает ее сержант. — Кто вам этот гражданин и что по делу знаете.
— Нельзя короче, милый. — Зоя Григорьевна грустно ему улыбается. — Я все, что знаю, расскажу. Сижу я однажды у подъезда на лавочке…
…Сидела прошлой осенью Зоя Григорьевна Личуткина у своего дома на лавочке. Морозно уж было. Хоть вечер, но не темно. Фонарь на столбе, знакомец старый, светил, тихонько помигивая. А из людей никого. Рано в районных городках спать ложатся, даже в новых, рано на работу встают. Только фонари всю ночь горят для кого-то.
Сидит Зоя Григорьевна и видит — человек идет мимо. Пошатывается. Пьяный, думает она, что ли. Да и не только это. Худой уж больно да длиннющий. Не сам будто шатается, а ветер его гнет да клонит. Волосы у него нечесаные, до плеч. Развеваются они по ветру, медленно так, как в кино иногда показывают, нежизненно. И к ней этот человек подворачивает.
Сел на лавочку против нее. Голова опущена. Как бы, думает Зоя Григорьевна, мимо него в дверь прошмыгнуть. Тут он голову поднял. Лицо у него небольшое, продолговатое, молодое лицо, только будто бы от вечернего света серое, и под глазами будто пятаки буреют, долго в земле пролежавшие. Сами глаза невелики и цвету непонятного, а пронзительны, уставились на нее:
— Что, мать? Сидишь?
— Сижу, — отвечает Зоя Григорьевна, — гражданин, воздухом вот дышу.
— Ну, сиди. — Он головой мотнул. — Гражданином меня величаешь. Как в автобусе или в милиции.
— Как же мне величать-то тебя? — растерялась Зоя Григорьевна. — Человек ты мне незнакомый. — А сама думает: пьяный, с ними лучше не связываться.