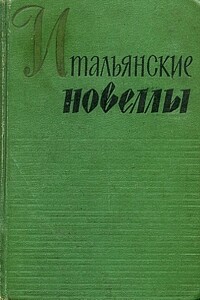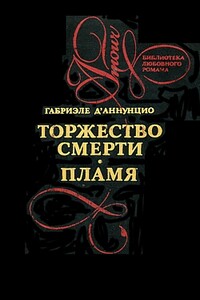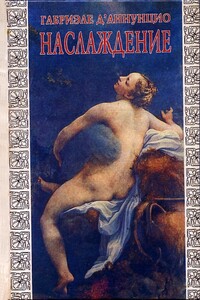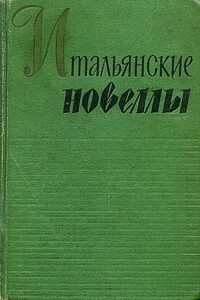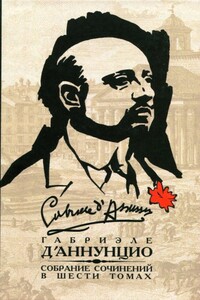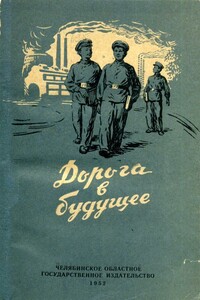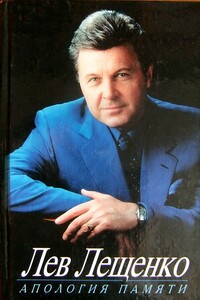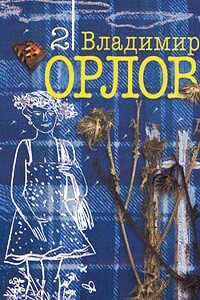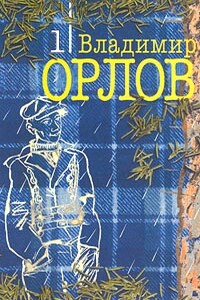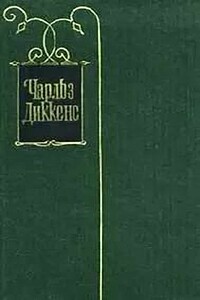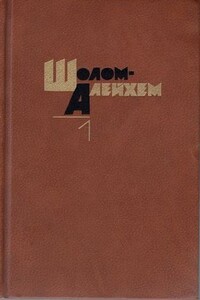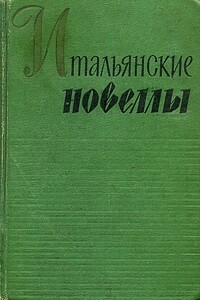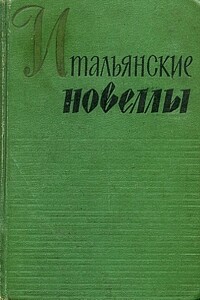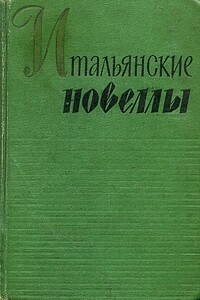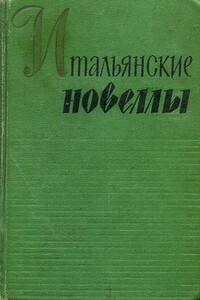Он лежал на носу баркаса, растянувшись на груде старых канатов, как сонливый кот, но не спал, а смотрел сквозь якорные клюзы на молодой месяц, опускавшийся за Монтекорно, и слушал плеск воды под килем, похожий на прищелкиванье языка в жадно пьющем рту. Красноватый серп новой луны, проглядывая сквозь туман, зыбко отражался на самой середине Пескары и забрасывал искры даже на темные полосы воды у берегов. Вдали в розоватом тумане высились стволы тополей и, чуть ближе, реи, отсвечивавшие мертвым цинковым блеском.
У самого устья реки ясное величие звездного неба как бы охраняло торжественный покой уснувшего моря.
Йори не спал. Новолуние источало какую-то таинственную негу, в которой перед ним отчетливо выступал образ Милы: ее темно-синие глаза смеялись, сквозь лохмотья просвечивала кожа теплого, оранжеватого оттенка, обожженная ласками солнца. Такой он увидел ее впервые в сентябрьский полдень на левом берегу реки: она стояла у цыганского шатра, кругом пощипывали травку лохматые жеребята, из-под медных котлов валил дым. Такой он увидел ее впервые: передник у Милы был полон незрелых еще яблок, и она вонзала зубы в их зеленую мякоть с жадностью изголодавшейся белки. Голова ее была в тени, открытая грудь цвела юной прелестью. Она уплетала яблоки среди полуденной тишины и показалась ему красавицей.
Когда же она обернулась, заметив, что издали на нее загляделся народ, ее голова с парой крупных круглых серег в ушах, очутившаяся вдруг на самом свету, напоминала отлитую из золота голову древнего варварского идола, пряди черных волос волной спускались на шею, вспыхивали в солнечных лучах, переплетались, спадая на лицо. Когда она отводила глаза в сторону, белки на горячем золоте лица сверкали эмалевым блеском.
Мимо нее пробежал гнедой жеребенок. Она отрывисто крикнула, подзывая его. Жеребенок замер перед нею на своих длинных тонких ногах и слегка ржал от удовольствия, пока она гладила ему шею и бока: ноздри его трепетали, шея изгибалась под ласкающей рукой цыганки. Обнажая розовые десны, жеребчик потянулся к яблокам. Цыганка, повернув лицо к солнцу и звонко хохоча, принялась тереть огрызками его зубы. В ушах ее блестели серебряные кружки серег, на шее, дрожащей от смеха, позвякивали амулеты.
Такой Йори увидел ее впервые.
Так Мила и цвела, словно растение, словно молодое деревцо, радостно пускающее ростки, так цвела она на благодатном воздухе, под благодетельным солнцем, смутно ощущая, как из самой глубины ее существа бьет родник жизни. В этом женском теле уже победоносно закипали здоровые юные соки. Здоровье придавало ее душе чистоту и учило девственно ясному взгляду на окружающую жизнь. В ней уже торжествовала вся пышность женского расцвета, но сама она еще невинно дремала, но задумываясь в простоте душевной над своим расцветом, не осознавая его и не страшась.
И все же зарю ее юности нередко заволакивал туман печали. Во время долгих скитаний по неведомым странам, среди чужих людей, когда приходилось часами скакать верхом навстречу ветру, скрываться от людей и далеко объезжать некоторые места, в пестрой смене всевозможных превратностей, бед, козней, даже преступлений, ее часто угнетала глубокая тоска. Это было неясное чувство — не то просто стремление обрести покой, не то позыв, который может быть и у растения, ощущающего, что жизненные силы начинают в нем постепенно угасать, и жаждущего солнечных лучей. В Миле тоже дремали некие силы, и в дремоте этой совершалась некая медленная работа, которая порою давала о себе знать, волнуя еще не пробужденную душу девушки внезапными дуновениями зноя и аромата. Тогда она замыкалась в сумрачной суровости: фиалки ее глаз меркли, словно отцветая. Целыми часами могла она молча глядеть вдаль, в каком-то священном оцепенении, словно бронзовый идол с эмалевыми глазами среди безмолвно белеющих шатров. Но в такие мгновения ею овладевали не мысли и она погружалась не в думы: все существо ее томилось таинственным ощущением жизни, что-то неведомое влекло ее и, не раскрывшись, ускользало прочь…
А потом ее опять захватывала древняя дикарская страсть, опять жеребцы, опять полуденное солнце, протяжные песни, яркие побрякушки. Ей доставляло наслаждение вцепляться в косматые гривы, когда табун рысью летел навстречу ветру и пыли, подгоняемый хворостиной Зизы.
Оливково-смуглый Зиза был ее маленьким рабом, который воровал для нее кур на гумнах и извлекал из лютни особенно сладостные звуки. Когда цыгане верхом на лошадях, опускавших головы от нестерпимой жары, ехали по горячим пыльным дорогам между замершими в знойной истоме кустами живых изгородей, Зиза вдруг исчезал и вскоре, запыхавшись, возвращался, неся в руках пригоршни ягод или недозрелых фруктов.
— Вот, Мила, бери, — говорил он смеясь.
И она уплетала фрукты, изредка со смехом бросая мальчику огрызок. Но любви к нему у нее не было.
Однажды они вместе удрали из табора на добычу. Это было в теплый мартовский полдень. Под щедрым весенним солнцем хорошо зацветал лен, а кончики зеленых колосьев начали уже принимать желтоватый оттенок. Молча, пригнувшись, пробирались Мила и Зиза вдоль живых изгородей. Сквозь ветви деревьев, еще безжизненные, смеясь, струились нежаркие лучи. От пучков травы поднималось свежее дыхание. Миле было весело. Когда они проходили под миндальным деревом, Зиза вдруг схватился за ствол и начал изо всех сил трясти его. Розовый благоухающий дождь цветов посыпался им на головы, и среди этого дождя зазвенел, заблестел их смех. Потом они замолчали и тихонько подкрались к забору, окружавшему гумно. Куры, не чуя беды, мирно копошились в соломе под растрескавшейся глинобитной стенкой. Пес, растянувшись на куче сухого камыша, блаженно дремал на солнце. Из низенькой хижины доносилось только равномерное поскрипывание качавшейся люльки да протяжная колыбельная песня.