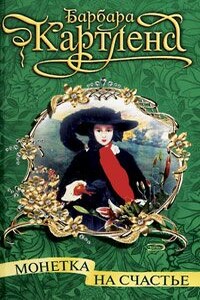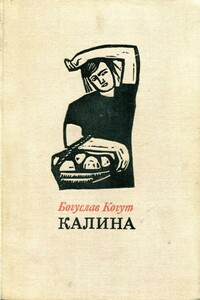Тарас Бурмистров
"Путешествие по Петербургу"
Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России.
Пушкин
Наверх уходила бесконечная череда ровных ступеней, тускло блестящих в холодном свете проплывающих ламп. Механический мир. Как странно выглядят здесь лица современников, таким нестройным, хаотичным рядом столпившихся на встречной лестнице. Скучно мне, минуты не могу без книги, приучил себя к притоку впечатлений. А у этого какая лицевая маска, натянуто-застывшая, как будто его вялая осмысленность силится оживить ее и не может, как застревает в желудке нездоровый обильный обед... тяжко, нет, не надо смотреть, уже кончается лестница, сейчас подъем изогнется... пора.
Дождя уже не будет. Под хмурым небом вытянулись в стороны проспекты, застыли тревожно трамвайные рельсы, сопровождаемые вдаль отсыревшими домами. Радостный сквозняк пробирает каждого ступившего на петербургскую улицу. Откуда у меня это вечное стремление -- рядить любую мысль в чужие одежды? Легче, когда труднее. Так и бедолаге этому из Чехова под старость по-немецки стало легче, чем по-русски. Ich sterbe, так он выразился. Вот уж точно жизнь подражает искусству.
Влага сочится прямо из воздуха. В такие дни фонари загораются рано. Если бы успеть до темноты. Понемногу начал согреваться. Сразу все поблекнет, потускнеет. Одни очертания. Теперь можно не так быстро. И полегче стало, после метро. А то совсем было нашло оцепенение. Разойдусь еще. Привык уже к тяжелым пробуждениям от вялости. В последнее время и во сне мозг работает так напряженно, что приходится, очнувшись, снова отдыхать, уже от сна. Как, все же, изматывает эта подземка. Не для моей обостренной восприимчивости. Пещерные своды, в глубине подсвеченные рельсы, вагоны, набитые человеческими телами, злые огоньки в далеком полумраке. И гулкий грохот. Механический мир. Или тот собрат сейчас на лестнице. С отвисшей губой и обессмысленной физиономией. На удивление тягостное зрелище. Почему-то так гнетут сегодня эти призраки... нет, хватит, что ты хочешь? Скажи спасибо, что хоть в тебе-то бьется еще жизнь и мысль. Что еще требовать от несчастного народа. Три переворота за столетие. И еще один совсем назрел. Даже и звучит, по-моему, непристойно: русская революция. Есть что-то в этих звуках задавленно-постыдное. Как обритое рыло боярина. Ну вот, опять о рылах, надо бы отвлечься. До Невы теперь совсем немного. Все же хорошо, что выбрался. Как веселит мое сердце движение на воздухе, благотворная смена быстрых впечатлений! И светлый, легкий ток мышления, вторящий этой смене. Где-то было у Мисимы о свежести сознания. Струится прохладным неостановимым ручейком даже в минуты высочайшего душевного напряжения. Я так часто повторял эту метафору, что в конце концов стал бояться застудить себе мозги.
Мисима писал "каждую ночь своей жизни". А я? Что же делаю я? Вот уж у кого талант разработан до сердцевины. Не столь, впрочем, значительный, как у Киплинга или Толстого. Мне часто авторы второго ряда приходились по душе, из тех, кто покрупнее: Вольтер, Гораций, Байрон, Гендель; нет у них неистового напряжения сил, как у первых, как раз ту жажду, что удается им разбередить, они и утоляют. Или только бередят. Да, он прав, наверное, Мисима; жизнь может сложиться (из тысячи случайностей) каким угодно образом, степень одаренности не определить, своей, да и чужой, читательское признание -- химера, у книг же вообще своя судьба, все зыбко, склизко, неопределенно -- в таком неверном мире только и остается, что, не раздумывая о последствиях, предаться lucubrations до рассвета; упорно, постепенно привыкая к этой ноше, в конце концов срастись с ней намертво, чтобы потребность в еженощном творческом забытье была такой же властной, как у других людей потребность в сне; а там будь что будет. Выполнять свой долг, и пусть рушится мир. Кажется, немецкая затея. Если произнести с чувством, бывает, что и помогает. В борьбе с Weltschmerz. Постой, теперь помедленней. За поворотом, здесь. Сейчас начнется.
Я всегда любил выходить отсюда к городу; после мелкой сетки нумерованных проспектов открывалась панорама; за неудавшимся новым Амстердамом здесь врывается настоящий Петербург, собранный, вытянутый вдоль Невы, напряженно влекущей холодные светлые воды между двумя незыблемыми набережными. Иногда, ясными вечерами, все это непомерное пространство до Дворцового моста мне казалось одной уютной огромной гостиной, по которой, подкрашенные низким солнцем, неторопливо прогуливаются петербургские жители. Теряясь среди них, я уходил туда; вторжением внезапным город часто пробуждал меня здесь от моей глухой сосредоточенности; оторвавшись от тяжелых мыслей, видел я взлетевший и застывший купол Исаакия, темным золотом впечатавшийся в небо, колоссальное скругление сенатской колоннады, длинный ряд домов на набережной, мост, с которого когда-то романтический Раскольников вглядывался пристально в ту же самую картину... он-то, правда, к зрелищам был не столь чувствителен; когда б не вывел его из обычной задумчивости удар кнутом, полученный им здесь так кстати для читающей публики, остался б тут один только пушкинский Петербург. Россия Достоевского расположена чуть дальше, на Садовой.