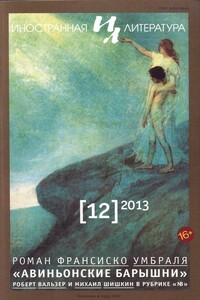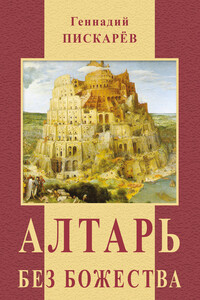Шаг в сторону от проблем поэтической техники[1]
Как за средневековыми повествованиями, будь то рыцарский роман или шансон дю жест, скрывается незамысловатая склонность к "романтике", так за канцонами мы обнаруживаем "любовный код".
Одна-две теории, раскрывающие внутренний смысл такого кода, могут в той или иной мере подвести нас к пониманию этой эпохи.
"Рыцарская любовь" - по крайней мере, то, что я склонен под этим подразумевать, - была искусством, которое сродни религии. Вовсе не к неясности ради нее самой стремились авторы, принадлежавшие к "troubar clus".
Искусство живо лишь до той поры, покуда занято истолкованием реальности, то есть, покуда оно выражает что-то, задевшее художника намного сильней и глубже, чем его аудиторию. Он подобен зрячему среди слепцов, которые готовы внимать ему лишь до тех пор, пока его слова подтверждаются их чувствами или кажутся им истиной. Если же он отвергает высокую честь быть истолкователем, если он говорит только ради того, чтобы наслаждаться звуками собственного голоса, аудитория какое-то время будет вслушиваться в эту невнятицу, в шелестение разукрашенных слов, но весьма скоро поднимется ропот, легкое брожение в рядах присутствующих - и вот перед нами столь знакомое положение вещей, предосудительнейший "разрыв между искусством и жизнью".
Функция посредничества - высшая заслуга искусства, и именно по этой причине мы полагаем, что своего рода сверх-научная точность есть тот пробный камень, тот оселок, на котором проверяются дарование художника, его честность, его подлинность. Он никогда не должен переступать черту, отделяющую смутный намек от того, что невыразимо.
Если подойти с этой меркой, во-первых, к претензии художника на роль истолкователя, а во-вторых, к той тщательности, с которой выполнено его творение, мы обнаружим, что "Божественная комедия" есть не что иное, как доведенная до совершенства метафора жизни; перед нами - собрание утонченных предпочтений, выстроенных в порядке их развертывания. По сути, художник равно упивается описанием неба и ада, земного рая и усеянных цветами лугов Лимба, описанием явления Любви в пепельно-сером видении - и таких несущественных, казалось бы, деталей, как птицы или кусты... ибо для художника все они - равно достойная возможность проявить точность, точность, благодаря которой только и могут иные из этих сущностей обрести бессмертие.
"Magna pars mei", - говорит Гораций о своей посмертной участи, "большая часть меня избегнет тленья": Точный художник предполагает оставить потомкам не только важнейшую часть своей личности, но , кроме того, еще и запечатлеть в искусстве, словно на кинопленке, некий живой отпечаток пульсирующего человека, его вкусов, нравов, слабостей - все, чему в жизни он не придавал ни малейшего значения, озабоченный лишь тем, как взволновать своей речью других, - все, что ради высших интересов было им позабыто; прибавьте к этому все, что его аудитория считала само собой разумеющимся; и, в-третьих, все, о чем он по тем или иным причинам считал должным умалчивать. Для нас это обнаруживается не в словах - слова может прочесть каждый - но в тончайших
трещинках мастерства, тех стыках, что различимы лишь взгляду собрата по ремеслу.
И вот перед нами творения человека, которого Данте почитал "лучшим из тех, кто слагал стихи на языке, вскормившем поэзию"[2], - этом lingua materna, - провансальском языке Лангедока; проникнутый нежностью эпитет, materna, бросает слабый намек на то, каким почтением пользовались у поэтов Тосканы забытые ныне строки, чье звучание и смысл равно трогали современников.
Упреки и обвинения - они звучали, и порой весьма глумливо, в Провансе, они раздавались в форме увещеваний в Тоскане, они слышны сегодня в виде глухого ворчания публики, и ворчанию этому суждено звучать и завтра - ибо в нем есть известный резон: поэзия, особенно лирическая, должна быть простой; вы должны улавливать смысл, покуда певец поет песню. Конечно, места достаточно для обеих школ. Балладно-концертный идеал на свой лад верен. Песня для того и существует, чтоб ее пели. Но если с этим настроем вы обратитесь к канцонам второй школы, вас ждет разочарование - и не потому, что их звучание или их форма не так лиричны, как у канцон первой школы, но потому что они непонятны с первого прослушивания. Они - настоящее искусство в том смысле, в каком настоящее искусство - католическая месса. Песни первого рода, скорее всего, прискучат вам, когда вы познакомитесь с ними поближе; они особенно скучны, если пытаться читать их после того, как прочитаны пятьдесят - чуть больше, чуть меньше - подобных.
Канцоны другого рода - это ритуал. К ним надо подходить и относиться как к ритуалу. В этом их предназначение и сила воздействия на слушателя. Тем они и отличаются от обычной песни. Может быть, они утонченней. Но постигнуть их тайны дано лишь тому, кто уже искушен в поэзии.