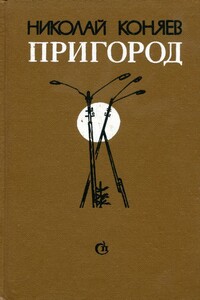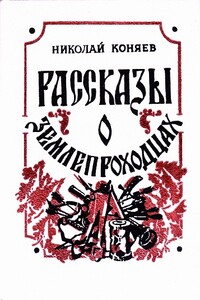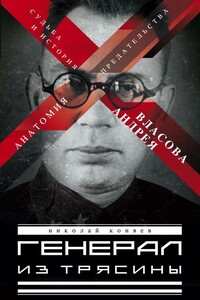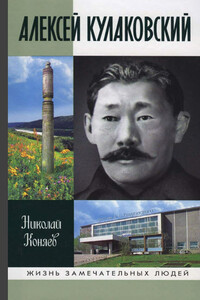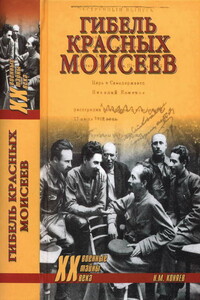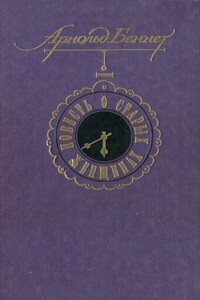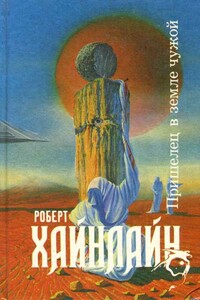Посреди парка, извиваясь, текла река… Она то прыгала по крутолобым камням, то величаво ширилась и плавно несла свои воды к большому круглому озеру, в зеркале которого отражались розовые стены дворцов.
К четырем часам, когда начинало рассветать, от реки поднимался туман, и казалось, что это вода выплескивается из берегов. Карабкаясь по береговым кручам, туман растекался меж черных стволов деревьев по всему парку, и статуи словно бы парили в воздухе, не касаясь земли.
Прямо к парку подступали кварталы кооперативных домов. Частные деревянные дома, что стояли здесь раньше, снесли лет десять назад, и уцелел лишь маленький островок, обманчиво кажущийся издали еще одним парком. Густо, соприкасаясь кронами друг с другом, росли тут деревья…
Туман не успевал доползти до этого островка, истаивал под лучами встающего солнца посреди кооперативных кварталов.
А лучи солнца, ярко осветив крайний дом, радужными бликами вспыхнули во всех его окнах, разбудили жильца с верхнего этажа — Якова Абакумовича Кукушкина…
Кашляя и безжалостно скрипя ступенями лестницы, Яков Авдеевич спустился во дворик, чтобы покурить на скамеечке под старой липой, — его жена страдала аллергией к табачному дыму.
Щурясь, Яков Авенирович рассматривал улочку с нависшими над нею тополями и тихо и светло улыбался, а тень его, схваченная косыми лучами солнца, тянулась по земле, падала на стены старого дома… Дом был старым. Нижние бревна его прогнили, и дом осел, в стенах появились трещины. На этот старый дом и смотрел Яков Аверкиевич. О чем думал, о чем упрямо вспоминал он, щуря свои добрые старческие глаза?
Может быть, о том далеком предвоенном времени, когда в белой рубашке с комсомольским значком на груди, счастливый и беззаботный, кружился Яков Агафонович под звуки пожарного оркестра с длинноногой девушкой из областной партшколы? Или, может быть, вспоминал Яков Акимович годы студенчества? Или… Впрочем, мало ли о чем может думать человек в тихие минуты зарождающегося дня. Едва заметная улыбка дрожала на его губах…
Яков Алексеевич не успел докурить свою папироску, когда во дворе появился гнилозубый Пузочес, волоча за собою гитару.
На ночь дом запирался, и, опаздывая к урочному часу, Пузочес ночевал в лопухах под забором.
— А! — улыбаясь, приветствовал его Яков Ананьевич. — Вот и ангел родины затейливой моей!
И, как всегда, Пузочес был хмур и зол от ушедшего хмеля. Кроме того, ночью у него начинали болеть зубы.
— Сам ты больно затейливый, дед! — огрызнулся он, поднимаясь на крыльцо и задевая за ступеньки дребезжащей гитарой. — Сколько раз уже говорил, что надо говорить: незлобливой. Нез-лоб-ли-вой, дед.
— Незлобливой так незлобливой… — легко согласился Яков Анатольевич. — Я ведь, глубокоуважаемый ангел, со слуха… А со слуха и перепутать можно, а?
— Ага… — хмуро отозвался Пузочес. — Только ты, дед, чего-то всегда одинаково путаешь…
Он сердито пнул ногой тяжелую темно-коричневую дверь, и она, заскрипев, распахнула перед ним лабиринт коммунального коридора.
Стараясь не шуметь, Пузочес поднялся на второй этаж и — на цыпочках! — вошел в свою комнату. Здесь ему не повезло. Пробираясь к своей раскладушке, он задел гитарой за стул, и гитара тревожно загудела.
— У-у! Дура… — зашипел на нее Пузочес, но было уже поздно. На диване, где спал брат, заскрипели пружины.
— Ты? — поднимая над подушкой тяжелую голову, спросил Васька. — Котуешь?
— Котую! — зло ответил Пузочес и, уже не таясь, швырнул в угол гитару. Не снимая туфель, повалился на раскладушку.
— Да мне-то что… — опершись на локоть, Васька потянулся к пиджаку, в кармане которого лежали сигареты. — Ты там, на столе, посмотри… Повестка тебе пришла.
Словно пружинка из сломанной заводной игрушки, вылетел из раскладушки Пузочес.
— Какая повестка?!
— В военкомат… — Васька уже раскурил сигарету и сейчас пальцами счищал с кончика языка табачные крошки. — Откотовался, елки зеленые…
— Так ведь осенью же набор… — разглядывая казенный военкоматовский бланк, пробормотал Пузочес. — Я же думал, что еще успею куда-нибудь сунуться.
— Досовался! — Васька скомкал пальцами сигарету и швырнул ее в угол.
Разбуженная голосами сыновей, поднялась мать, которую все соседи звали тетей Ниной.
Она раздернула цветастую занавеску и тяжело вздохнула. Сыновья опять ругались. Медленно прошла тетя Нина по комнате, взяла с подоконника коробку со шприцем и вышла. Спускаясь по лестнице на кухню, она тяжело дышала. Опять — от расстройства — у нее начинался приступ астмы.
Робко и незаметно жила на этой земле тетя Нина. Незаметно выросла, незаметно родила сыновей, незаметно вырастила их и теперь, так же незаметно, как незаметно делала все, заболела…
Ей не исполнилось еще и пятидесяти лет, а выглядела она уже дряхлой старухой. Хватаясь за перила лестницы, она не могла выдохнуть из себя воздух, и глаза ее пучились. Она натужно хрипела, но сквозь боль и удушье неотрывно думала о сыновьях. С тех пор как Васька вернулся из заключения, сыновья ругались чуть ли не каждый день.
Задыхаясь злым кашлем, тетя Нина разожгла газ и поставила на огонь коробку со шприцем. Надо было прокипятить его. Астма мучила ее уже пятый год, и за это время тетя Нина привыкла справляться с приступами болезни собственными силами. Может быть, поэтому никто в доме — даже сыновья — не верили в ее болезнь.