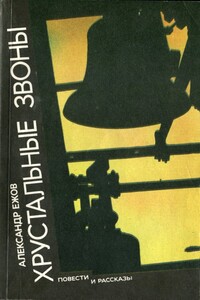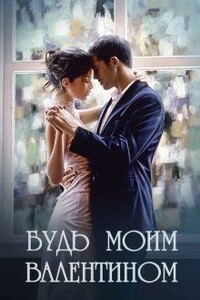ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ
Глава первая
Рано утром над Большим Городцом грохнул выстрел, залаяли собаки, с надрывом кто-то заголосил в соседнем доме, словно хоронили покойника. За окном закричали по-немецки, опять хлопнул выстрел, этак глухо хлопнул, отдаленно, затем совсем близко прострочила автоматная очередь. Настя Усачева подбежала к окну, отодвинула край занавески, вся напряглась, вся превратилась в слух и зрение.
На улице немцы и полицаи бегали, строча из автоматов, офицер давал отрывистые команды. Свернули к дому Степачевых, кто-то ударил прикладом в калитку. Настя отпрянула от окна, перевела дух, потом снова отодвинула занавеску. Немцы ломились в соседний дом. «Ужели конец? — подумала она. — Ужели кто-то выдал? Что делать? Куда спрячешься? На чердак? В подвал?»
У Степачевых с калитки сорвали дверь. Солдаты ринулись во двор. Случилось что-то страшное. Провал. Кто-то предал... Кто? Она вышла в сени и снова прислушалась, ожидая, что вот-вот придут и за ней. В сенях темно и прохладно, и она хотела бы затеряться в полутьме, зарыться в сено, а может быть, через огород задами и... в лес. Подумала так и сразу отогнала эту мысль. А как мать? Могут схватить ее. Они все могут, решительно все: могут убить, арестовать, поджечь
дом, увести корову.
Мать Насти — Екатерина Спиридоновна — стояла на коленях перед образами, истово крестилась.
— Господи милостивый! Упаси нас, грешных... От напасти юродивых упаси!
Настя села на скамейку, тихо сказала:
— К Степачевым вломились.
— К Степачевым? Сколько говорила тебе: не якшайся с этими Степачевыми. Они что? Пустышные. Незамужние... Ветер у них в голове... Ах, Настя, Настя! Попадешь в лапы к эсэсям окаянным — изуродуют, а то и просто застрелют. Им что...
Старуха заплакала, утирая слезы. И чувство жалости переполняло Настю, она готова сама была заплакать. И на самом деле: вот ее, Настю, заграбастают, и как мать будет жить одна, кто поможет ей? Братья — неведомо где. На фронтах, в партизанских отрядах — никто не знает. Да и живы ли? Единственная опора — она, дочка. И кормилица и защитница — только она, и никто больше.
— Ладно, мама, ладно, не бойся. Ничего плохого не случится. Поверь мне — ничего.
— Супостатов боюсь. Сколько людей погубили!
Да, фашисты многих обездолили, осиротили. Поруху принесли, тяготы. Страх. Смерть... Пришли, словно рать озверелая. Что натворят — никому не ведомо. Настя встревожена. Тоже страшно. Боялась за Степачевых. Дома ли они? Светланка Степачева сегодня ночью должна пойти на связь к леснику Прохорычу. А вдруг ее уже схватили? Что тогда? Провал и новые жертвы. Может, и Настю схватят? Все может быть. Решительно все.
Не терпелось выйти на улицу, разузнать, что и как. И все же боязно выходить: улица стала чужой, опасной— там разгуливают фашисты, полицаи. Лютуют не без причины. Настя уже знала: партизаны в селе Ракушеве раскокошили фашистский гарнизон, а на станции Лесная взорвали эшелон с боеприпасами. От воздушной волны сорвало крышу вокзала, в домах вылетели стекла, загорелись склады. Получилась развеселая карусель: фашисты бегали по улицам в подштанниках, кричали и ругались, стреляли из автоматов в непроглядную темень. Очухались лишь под утро. И вот злобствуют. Хватают людей без разбора. Поджигают дома. Не обошли стороной и Большой Городец. Кого схватят? Кто станет очередной жертвой?
Настя подошла к окну, снова отодвинула занавеску — на улице тихо и безлюдно. «Ушли, — обрадовалась,— значит, пронесло...» Только она подумала, как вдруг на огородных задах прогремела автоматная очередь, короткая, отрывистая. Поняла — расстреляли кого-то. Стриганули из автомата — и поминай как звали. Но кого же, кого? Она отпрянула от окна, поняла: опасность все еще кружит по деревне. Мать истово крестилась и, посмотрев с укором на дочь, что-то невнятно пробормотала.
В калитку Усачевых громко застучали. Настю точно током обожгло. Идти открывать? Не откроешь — дверь выломают, так что надо открывать. Она вышла в сени. Вышла, прислушалась. Да, там, за дверью, были они. Что принесли с собой? Что? Может, смерть?
— Кто там? — спросила громко, хотя и знала, что это они, фашисты.
— Открывай! — кто-то рявкнул по-русски.
«Кто бы это? Голос вроде знакомый, с хрипотцой». И, осмелев, она отворила дверь.
На крыльце были трое — немецкий лейтенант, полицай Синюшихин (теперь она поняла, что это он сказал: «Открывай!») и еще солдат с автоматом. В лицо Насти пахнул непривычный запах духов вперемешку с табачным и сивушным запахом.
Духами пахло от лейтенанта, самогонкой и табачиной — от Синюшихина.
— Принимай гостей! — громко сказал полицай и, широко осклабившись, показал беззубый рот.
Синюшихин был из соседней деревни Нечаевки, жил с матерью-бобылкой, известной на всю округу Дарьей Синюшихой. Синюшихина в колхозе не работала, приторговывала самогоном. Сын перед самой войной пришел из отсидки. За что сидел, Настя не знала. Синюшихину — за тридцать, не молод уже, но не женат; в пьяной драке лет двенадцать назад кто-то выбил ему правый глаз, и в армии он не служил. А когда пришли оккупанты, он, Синюшихин, и подался к ним, так сказать, готовеньким. И вот выслуживается.