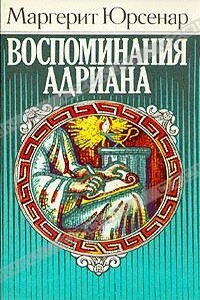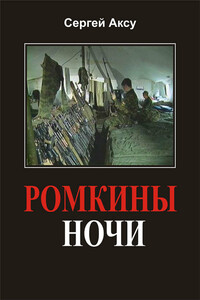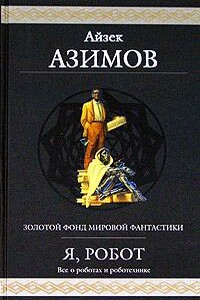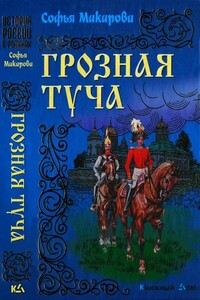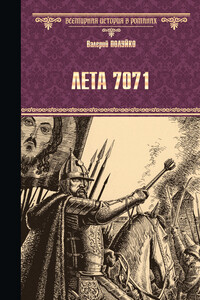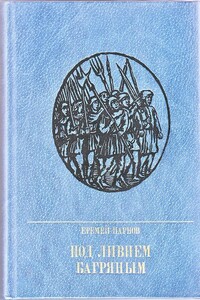Предисловие
«Последняя милость», короткий роман из времен войны 1914 года и русской революции, был написан в Сорренто в 1938 году и увидел свет за несколько недель до Второй мировой войны, в 1939-м, то есть спустя двадцать лет после описанных в нем событий. Сюжет далек от нас и в то же время очень нам близок — далек потому, что бесчисленное множество эпизодов Гражданской войны за двадцать лет заслонило те события, близок же потому, что душевные смуты, описанные в романе, мы переживаем и сейчас, даже сильнее, чем когда-либо. В основе романа лежит подлинная история, и три центральных персонажа, которых в книге зовут Эрик, Софи и Конрад, изображены почти в точности так, как описал их мне близкий друг главного героя.
История эта тронула меня, как, надеюсь, тронет она и читателя. Кроме того, с чисто литературной точки зрения в ней, как мне показалось, содержатся все элементы, присущие классической трагедии, и она, таким образом, прекрасно вписывается в рамки традиционной французской повести, унаследовавшей, на мой взгляд, некоторые черты этого жанра. Единство времени, места и, как исключительно удачно определил некогда Корнель, единство угрозы; действие, сосредоточенное вокруг двух-трех героев, из которых по крайней мере один достаточно трезво мыслит, чтобы пытаться разобраться в себе и сам себя судит; наконец, неизбежность трагической развязки, к которой всегда приводит страсть, хотя в повседневной жизни она, как правило, принимает более скрытые или невыраженные формы. Да и само место действия, затерянный уголок Прибалтики, отрезанный от мира революцией и войной, как нельзя лучше — по причинам, аналогичным тем, что так блестяще изложил Расин в предисловии к «Баязету», — отвечало условиям трагической игры, очистив историю Софи и Эрика от рутины будней и позволив взглянуть на совсем недавние события с некоторого расстояния, почти равноценного временной дистанции.
Я писала эту книгу не для того, чтобы воссоздать некую среду или определенную эпоху, — по крайней мере, это не было главным. Но психологическая правда, к которой мы стремимся, слишком тесно связана с личным и частным, чтобы мы могли с чистой совестью, как это делали до нас наши учителя из классической эпохи, игнорировать или обходить молчанием внешние факторы, несомненно влияющие на сюжет. Местечко, которое я назвала Кратовице, не могло быть лишь преддверием трагедии, а кровавые эпизоды Гражданской войны — только расплывчато-красным фоном истории любви. Без созданного ими состояния перманентного отчаяния, в котором пребывают герои, их дела и поступки были бы необъяснимы. Эти мужчина и женщина, которых я знала лишь по краткому изложению перипетий их любви, могли ожить лишь в этом неотъемлемом от них освещении и, насколько возможно, в исторически достоверных обстоятельствах. В результате сюжет, выбранный мною потому, что я нашла в нем конфликт страстей и сильных характеров практически в чистом виде, заставил меня знакомиться со штабными картами, выяснять подробности у очевидцев и поднимать в архивах старые газеты и фотографии, искать смутные тени, слабые отголоски, только и долетавшие в то время до Западной Европы от почти не освещавшихся военных действий на границе маленькой северной страны. Позже непосредственные участники той самой войны в Прибалтике — двое или трое, независимо друг от друга, — заверяли меня, что «Последняя милость» очень походит на их воспоминания, и это было для меня лучшей оценкой моей книги, чем любые положительные отзывы критики.
История написана от первого лица, в форме монолога главного героя, — этим приемом я часто пользовалась, потому что он не оставляет в книге места точке зрения автора или, по крайней мере, его комментариям, и еще потому, что он позволяет показать человека наедине с собственной жизнью, пытающегося более или менее честно осмыслить ее и, прежде всего, вспомнить. Не будем, однако, забывать, что длинный рассказ из уст главного героя романа, обращенный к сочувственно-безмолвным слушателям, — это все-таки литературная условность: с такой скрупулезной детальностью и логической последовательностью рассказывать о себе может герой в «Крейцеровой сонате» или «Имморалисте», но никак не в жизни: реальная исповедь обычно бывает более отрывочной или, наоборот, перегруженной повторами, более путаной, менее внятной. Разумеется, эти оговорки относятся и к рассказу, который ведет герой «Последней милости» в зале ожидания, обращаясь к слушающим его вполуха попутчикам. Но, приняв эту изначальную условность, во власти автора показать живого человека со всеми достоинствами и недостатками, выраженными его собственными характерными словечками, с его правотой и неправотой, с его предрассудками, о которых он не знает сам, с его откровенной ложью и лживыми откровениями, о чем-то умалчивающего, а что-то даже и забывающего.
Такая литературная форма имеет и свой недостаток: она более, чем любая другая, требует от читателя сотрудничества, вынуждая его домысливать события и людей, которые он видит сквозь «я» героя, как предметы сквозь толщу воды. В большинстве случаев этот прием — рассказ от первого лица — представляет рассказчика в выгодном свете; но в «Последней милости» искажение, неизбежное, когда человек говорит о себе, имеет обратный эффект. Такой человек, как Эрик фон Ломонд, мыслит наперекор самому себе; боязнь впасть в ошибку заставляет его истолковывать свои поступки, если они вызывают сомнение, непременно в худшую сторону; страх перед зависимостью заковывает в броню жестокости, ненужную по-настоящему жестокому человеку; гордыня в нем постоянно мешает гордости. В результате наивный читатель может увидеть в Эрике фон Ломонде садиста, а не человека, решившегося бестрепетно посмотреть в лицо страшным воспоминаниям, бездушного солдафона, забывая, что бездушного солдафона как раз нисколько не терзала бы память о том, как он заставил кого-то страдать, или, скажем, убежденного антисемита, — в то время как этот человек, для которого зубоскальство в адрес евреев является одной из составляющих кастового конформизма, не скрывает своего восхищения мужеством лавочницы-еврейки, а Григория Лоева включает в героический круг погибших друзей и врагов.