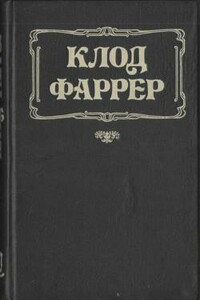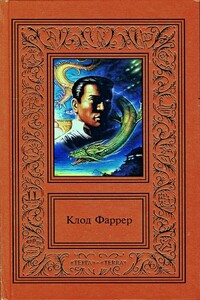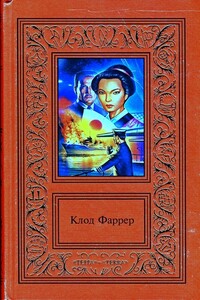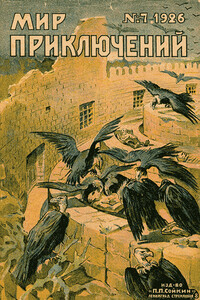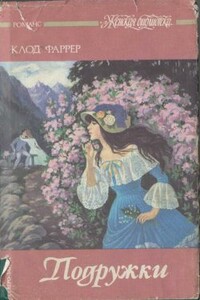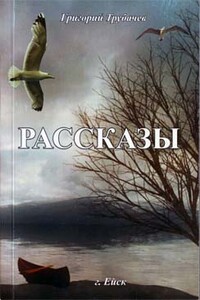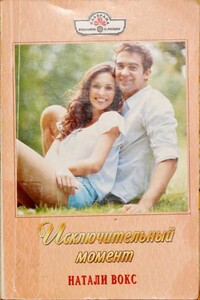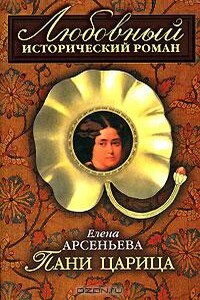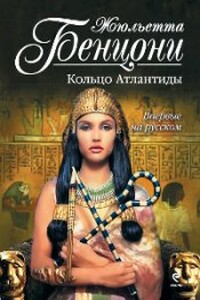Легкие, легкие шаги по толстым полотняным половикам. Затем дверь – я ее не слышу, но угадываю: она едва приоткрывается робким, но опытным пальцем… и уже закрывается снова… тихонько… тихонько…
Кто-то вышел из моей комнаты, бесшумно, словно мышка. А я сплю: самый элегантный способ избавить друг друга от несколько слишком банального церемониала утренних прощаний дамы и господина, которые были соединены, чтобы вместе спать, – спать? – очень мало… – взаимным любопытством и сообщничеством глухого и немого отеля-дворца…
В самом деле, это отель. Даже не такой безобразный отель, как водится – не такой безобразный, скорее нелепый: его выстроили на другой стороне оврага Уэллингтона, как раз под пару Альгамбре, Альгамбре, чуду из чудес чудесной Испании. Альгамбре, этому гаремику, этому красному, жаркому, глубокому, сладострастному алькову, в котором калифы Омайяды, африканские и испанские султаны, в течение пяти столетий скрывали свои любовные увлечения…
Я, Жан Фольгоэт, – Фольгоэт, музыкант-химик… не ищите, вы наверно не знаете, – я, впрочем, не прав, возмущаясь, потому что я живу в отеле и наслаждаюсь Альгамброй: все это по предписанию факультета (медицинского, иначе говоря, зловредного), который этим летом открыл у меня не знаю сколько видов неврастении с самыми германскими названиями. От этого можно было лечиться только очень далеко от Парижа и при условии не прикасаться в продолжении нескольких месяцев ни к ретортам, ни к пробиркам. Лекарство как лекарство, – это меня еще не убило… клянусь честью. Я ждал худшего…
И вот уже две недели, как я покинул Париж; две недели: 14 июля – 28 июля. Долговаты эти две недели. Если бы еще это не было преддверием ада…
Все-таки здесь веселятся. Послушайте, третьего дня сразу отъезд в 7 часов утра, возвращение в 8 часов вечера, – я проехал рысью верхом на муле от отеля до Сьерра-Невады и от Сьерра-Невады до отеля: двенадцать часов пятьдесят минут неровных, раскаленных утесов, десять минут вечного снега… (нечто вроде сибирской яичницы: щербет между двумя половинками воздушного пирога). Щербеты побуждают к флирту… Все это знают…
Итак, мы, несколько обитателей отеля, ехали караваном верхом по Сьерра-Неваде… Видите вы это отсюда? Совершенное подобие Кука и K°… Само собою разумеется, амазонки: гармонически дозированная смесь полов…
Мой лошак под конец стал нашептывать разные вещи на ухо лошачихе, своей соседке… Дама, ехавшая на лошачихе и господин, ехавший на лошаке, не могли, конечно, сделать ничего иного, как последовать такому хорошему примеру… они последовали ему…
Мы последовали…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заключение: кто-то сейчас вышел из моей комнаты…
Это, чтобы объяснить то. Точка. Это все.
И теперь в полумраке моей комнаты плывет, колышется и движется сложное благоухание: свежей юности, горячего, горячо ласкаемого тела и, я не знаю, какой еще знойный, восточный, азиатский аромат, который обволакивает, связывает, соединяет… Дама – венка: турки там прошли… ее бабушки… Я представляю себе запах suf generis[1] гаремов: немножко сдобного хлеба сейчас из печи, немножко ладана, чуточку побольше ванили, чуточку поменьше крепкого перца. Моя комната – курильница. Слишком много духов. Если бы я им поддался, я от них не освободился бы. И я оставался бы в этой постели, лежа на спине, закинув назад голову, с размякшими ногами, разведя руки до полудня… а, вероятно, еще нет семи часов…
В самом деле… Неужели нет семи часов?.. Задача!.. Я охотно посмотрел бы на свои часы… но я положительно не припоминаю вместилища, куда должен был положить их вчера вечером… и, наоборот, очень хорошо припоминаю, что не соблаговолил завести их… «Ничего»… спросим о времени у солнца…
Окно открыто, но ставни закрыты, и занавески сдвинуты. Я, раздвигая занавески, толкаю ставни, и входит солнце. Оно входит даже грубо.
Кто не жил в Африке или в горах Андалузии, тот не ведает гордого величия гренадского солнца. Впрочем, я не знаю двух солнц в мире, которые были бы одинаковы. Итак, здешнее солнце не походит ни на какое другое. Это солнце – одно из самых великолепных, какие только можно себе представить. Оно цветов Испании: желтое и красное; могущественное, но благожелательное; совсем не убийственное, наподобие ультрафиолетового солнца Сингапура или Сайгона; в общем, молодчина солнце, хотя на вид буквально страшное. Даже две недели спустя каждое утро оно все еще меня удивляет, поражает. Оно только что завладело всей комнатой, оно наполнило ее: четыре голые, покрытые известью, стены теперь белы, как снег, а пыль на полу (который подметается как только можно меньше) сверкает – золотистая, волшебная…
Черт ее возьми, эту горничную, она вполне имеет основание быть грязной.
Я облокачиваюсь о балкон. У моих ног, глубоко вниз, овраг Уэллингтона вытягивает свой густой британский лес: вязы и ясени. Далее мавританская гора выставляет свои бока, рыжие, как львиная шкура. И ее увенчивает Альгамбра.
Альгамбра: диадема, состоящая из голых стен, без всякого блеска снаружи: драгоценности скрыты внутри: залы, альковы, дворы, фонтаны, все те чудеса, которые калифы Омайяды, последние калифы Запада, нагромоздили в последнем дворце своей последней европейской столицы: чудеса из камня, чудеса из мрамора, чудеса из алебастра, чудеса из кедра, чудеса из слоновой кости, чудеса из черепахи, чудеса из майолики, чудеса из мозаики, все то, что называется: Львиный Двор, Миртовый Двор, Посольский Диван, Башня Пленницы… все те абсолютные совершенства, которые могли осуществить только одни мусульмане, потому что только для них одних время – ничто… Ах, победа Карла Мартела при Пуатье, вероятно, стоила нам очень дорого!..