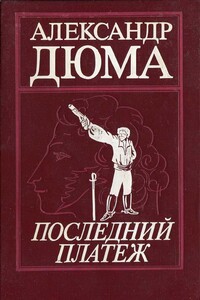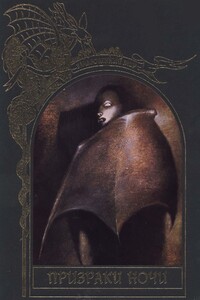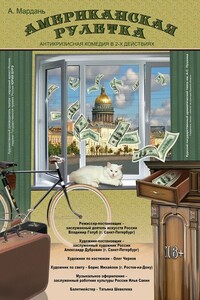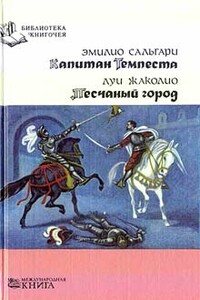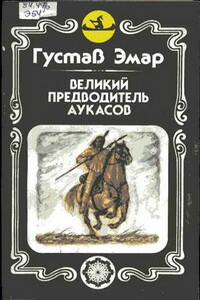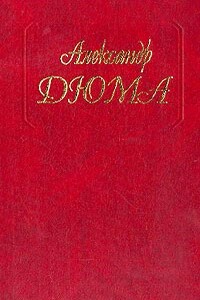В один из весенних дней 1838 года среди могучих каменных твердынь московского Кремля прогуливалась не очень обычная для этих мест чета иностранцев. Оба они, и мужчина, и женщина, были довольно молоды: он — лет сорока; она — далеко неполных тридцать. Одетые по-западному, но без малейшей претензии на вычурность. Они являли картину нежной и прочной дружбы: ласково опирались друг на друга, и со взаимной чуткостью останавливались возле каждой достопримечательности.
Оба то и дело вскидывали головы, любуясь слепящим золотом глав, мощной грацией куполообразных шатров, мозаикой фресок.
Долго стояли они так, по-детски запрокинув головы, перед удивительной белоствольной свечой Ивана Великого с вечно пылающим пламенем ее золотого венца.
Приковал их изумленный взор также и величайший колокол мира — «царь колокол». И как бы незримо поглотило их обоих огромное зияющее жерло «царь-пушки» — Руа-деканон.
А когда их взгляд упал на окутанное легчайшей дымкой апреля такое же золотоглавое Замоскворечье, лежавшее как бы в чаше по сравнению с мощным холмом Кремля, у обоих вырвалось восклицание восторга.
— Невероятно, непостижимо! — сказал старший из них, высокий с гордо посаженной головой человек с несколькими серебряными нитями на висках. — Просто непостижимо! Когда Наполеон беседовал со мной на Эльбе, он выразился о Москве так: «Это самый странный город, какой я когда-либо видел в своей жизни». А я, вернее мы, Гайде, не находим слов, чтобы выразить наше восхищение. Я готов сказать прямо противоположное: «Это самый чудесный город, какой дала мне увидеть Судьба!»
— Совершенно согласна с тобой, Эдмон! — горячо поддержала его спутница. — Вполне, вполне согласна с тобой, — повторила она. — Даже Париж, прославленный поэтами, не так сказочен, не так волнует душу и сердце.
Черты лица и смуглость женщины намекали на ее южное или восточное происхождение, но безупречность ее французской речи говорила сама за себя.
Похвала Москве от таких людей не могла быть банальной фальшью.
— Надо думать, что устами Наполеона говорил политик-полководец, потерпевший от этого города свое первое и страшнейшее поражение… — как бы самому себе разъясняя только что сказанное, продолжал тот, кого молодая женщина с дружеской интимностью называла Эдмон. — Когда я услышал от него, никогда ничего не страшившегося, такое определение Москвы, мне сразу же захотелось самому увидеть этот таинственный город Востока. Мое любопытство было разбужено этой оценкой. И помнишь, Гайде, я не раз называл этот город в числе тех мест, где мне хотелось бы побывать после того, как будет завершено главнейшее дело моей жизни…
Все — и в облике, и в манерах этого человека, и даже его голос: мужественно-мягкий, глуховатый — свидетельствовало о его незаурядности.
Эдмон оторвал свой взгляд от волшебной панорамы Замоскворечья: от золотых, голубых, розовых, оранжевых глав его церквей, его колоколен, тонущих в свежей золотистой зелени бесчисленных садов.
Медленно, жалея расставаться с увиденным, с тем, что еще приковывало их взгляды, чета гостей двинулась в сторону знаменитых Спасских ворот, при входе в которые всем полагалось обнажить голову. Даже и не зная об этом, при входе в эти древние много повидавшие ворота Гайде захотелось снять свою маленькую албанского стиля шапочку, которая хорошо гармонировала с ее строгим дорожным платьем. А Эдмон, уже слышавший о нерушимом обычае москвичей, проходя под сумрачным многовековым сводом, без всякого самопринуждения снял свой парижский цилиндр. Историю он чтил, как и Судьбу.
И тут — за этими воротами — их ждал как бы новый совсем иной мирок! Суровый, при всей сказочной пышности и красоте, московский Кремль остался позади. Перед ними развернулось иное зрелище, не менее сказочное: весенне-пасхальная московская ярмарка, так называемый «Вербный базар». Правда, над Москвой еще не висел тот неумолчный, похожий на неуходящее многозвучное облако, так восторженно описываемый путешественниками, пасхальный перезвон колоколов. Ради него, собственно, и поспешила в древнюю эту столицу наша чета. До русской Пасхи оставалось еще несколько дней, но огромная площадь, примыкавшая к Кремлю снаружи, была вся заполнена множеством разноцветных и разнокалиберных балаганов с разнообразнейшими товарами. Москвичи, готовясь к главному празднику года — Пасхе, закупали здесь праздничные сладости, вина, волжско-каспийские деликатесы, а также обновки из одежды и обуви, галантереи, посуды, музыки: от свистушек глиняных до балалаек и гармоник.
Внимательно рассматривая это необыкновенное зрелище, Эдмон Дантес задумчиво сказал:
— Наполеон напрасно мечтал одолеть этот своеобразный народ, у которого так органически сочетается почти испанское фантастическое благочестие с почти итальянской неукротимой жизнерадостностью.
Гайде с легким укором заметила:
— Стоит ли о нем вспоминать, виновника твоих несчастий? Свидание с ним погубило тебя тогда, мой дорогой Эдмон!
— Я вспомнил о нем потому, что свидание с Москвой погубило его! — ответил граф.
— Оно не погубило бы его, если бы он, подобно нам, явился сюда не завоевателем, а мирным, добрым гостем. И он, как мы сейчас, был бы очарован необычайной красотой этого города, его восхитительной картиной ландшафтов. Я где-то читала, что даже про это изумительное сооружение, — она указала на собор Василия Блаженного, — даже про это национальное чудо он не нашел иных слов, как такие: «Из всех сокровищ Москвы я вывез бы „Эглиз де Сэн-Базиль“, если бы только мог это сделать! Вот сердце России, вот ее символ! лишив ее этого чуда, я вырвал бы ее загадочное сердце…».