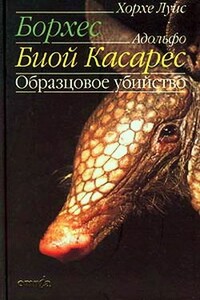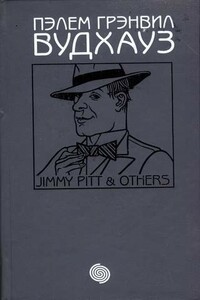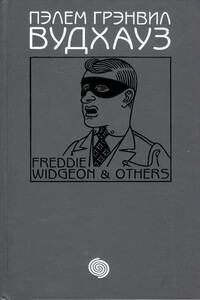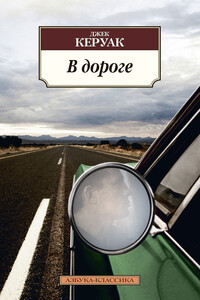Ослепительное зимнее солнце, запутавшись в витых арках нарядного двухъярусного моста метро, бросало кружевные тени на темные воды Сены. Под эстакадой для поездов, напоминающей своды высокого пышного зала, по широкой пешеходной галерее спешили люди, минуя друг друга в молчании, словно исполняли некий странный и неизбежный обряд. Разветвлявшиеся вверху колонны из сизого железа были тем последним штрихом, который превращал галерею в островок art nouveau, застывший во времени. Далекое январское солнце было бессильно согреть эту картину великолепного упадка, оскверненную гниловатым запахом реки, чадом пережаренных каштанов, которым несло с набережной, надсадным воплем металла под колесами прогромыхавшего вверху поезда. Долгая жалоба его сирены стала первым аккордом изысканного и необузданного концерта. Танец начался.
Двое людей шли по галерее, направляясь в одну и ту же сторону. Их уже захватил единый ритм, хотя они об этом и не подозревали; они не были знакомы и не смогли бы объяснить, какое немыслимое стечение времени и жизненных обстоятельств свело их вместе. Каждый из них воспринимал этот мост, этот день, эти горбатые силуэты парижских домов на фоне неба совершенно по-своему, если вообще воспринимал, и вероятность того, что они встретятся, казалось бы, равнялась нулю.
Он профилем походил на ястреба, злой и неуступчивый даже в горе, ибо, бесцельно мотаясь от колонны к колонне, он плакал. У него было крупное мускулистое тело, он двигался с небрежностью стареющего спортсмена, ерошил короткими пальцами свою шевелюру, и руки, что он глубоко засовывал в карманы пальто из верблюжьей шерсти — грязноватого, однако прекрасно пошитого в стиле, который прославился благодаря неким печально известным американским гангстерам, — то были руки рабочего человека. Распахнутый ворот рубашки обнажал крепкую толстую шею.
— Господи, сучий ты потрох!
Его отчаянный вопль утонул в грохоте пронесшегося над головой поезда. В ту минуту лицо мужчины, небритое и искаженное мукой, вдруг стало похожим — тонкостью угловатых линий, изысканным рисунком губ и глазниц — на лицо женщины; тем не менее оно оставалось грубоватым и жестким. На вид ему было лет сорок пять, он был красив какой-то беспутной красотой. Встречные мужчины, спешившие под тенями арок, уступали ему дорогу.
Женщина была раза в два моложе его. Она лихо сдвинула набекрень шляпу из мягкого коричневого фетра с широкими полями. У нее был заносчивый вид, свойственный молодым и красивым представительницам прекрасного пола. На ходу она соблазнительно, чуть ли не вызывающе двигала ягодицами, раскачивая сумочку на длинном кожаном ремешке. На ней было долгополое пальто из белой замши, лицо утопало в пышном воротнике из серебристого песца. Ресницы были слегка тронуты тушью, надутые губки тщательно подкрашены, что придавало им влажный и свежий вид. Даже под длинным пальто хорошо просматривалось ее налитое сильное тело, которое, казалось, жило своей собственной жизнью.
Их звали — Пол и Жанна. Для нее запах Сены, осколки солнца на стеклах окон со свинцовыми рамами в эркерах домов вдоль набережной, вспышки электрических искр с исподу поездов метро над головой и хищные взгляды мужчин — все лишний раз говорило о полноте жизни. Для него же такие мелочи не имели никакого значения, если даже он и обращал на них внимание, ибо являли собой всего лишь случайные приметы ненавистной действительности.
Она первой его увидела — и не отвела взгляда, когда он рассеянно, но в упор посмотрел на нее: в этот миг между ними возникла некая связь. Мужчина, про которого она подумала — неприкаянный, вдруг показался ей интересным, возможно, из-за того, что плакал и одновременно привлекал и отталкивал ее ощущением заложенной в нем подавленной агрессивности. Он же увидел в ней всего лишь очередной объект желания, более притягательный, чем другие, но все же именно — объект, подброшенный ему слепым роком на пути бессмысленных блужданий по жизни.
Жанне вдруг захотелось коснуться его влажной небритой щеки; он же с удивлением ощутил прилив похоти, еще не веря в то, насколько это реально. Несколько секунд они шли рядом, нога в ногу, причем лица их не выражали решительно ничего, помимо легкого любопытства; затем она вырвалась вперед, словно была связана с ним, как судно с якорем, невидимой, однако прочной нитью, дошла до конца галереи — и, выйдя из роскошного окружения fin de siecle[1], очутилась в мире грубой современности, где клаксоны звучали немузыкально, синий купол неба казался слишком крутым и прозрачным, а связующая их нить порвалась или ослабла, так что ее как бы и не было.
Жанна миновала кафе «Виадук» на улице Жюля Верна. Прохожих на улице не было, хотя утренний час пик еще не кончился и Париж дрожал от рева автомобилей. Она дошла до дома с высокими железными дверями, заделанными матовым желтым стеклом. Над звонком к консьержке красовалось написанное от руки объявление: «Сдается квартира на пятом этаже». Жанна отошла и, прищурившись, оглядела гнутые балкончики, выступавшие на фоне синего неба. Она набрела на этот дом совершенно случайно, и ей стало любопытно, какую же это квартиру она может снять за фасадом с приземистыми, толстенькими, фаллической формы колоннами и приспущенными шторами, которые придавали окнам вид сонных, полуприкрытых веками, однако бесстыже прищуренных глаз. У Жанны был жених, и они с Томом часто обсуждали, как наконец заживут вместе, хотя все эти обсуждения носили общий, чуть ли не отвлеченный характер. Теперь ей подумалось, что в этом доме их абстрактные мечты могут обрести реальную плоть.