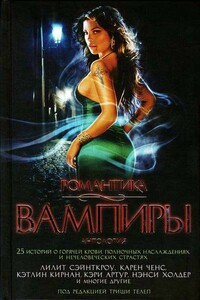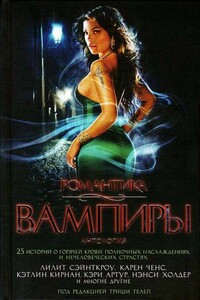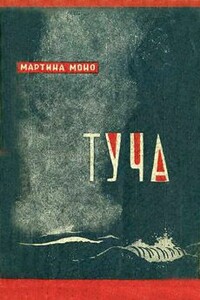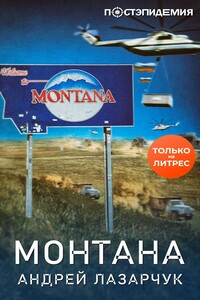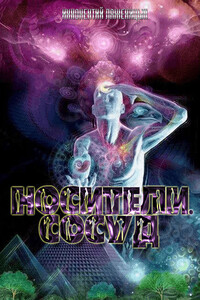Я не умираю. Я лишь становлюсь все старше и старше.
Посмотрев на меня, вы скорее всего увидите человека лет пятидесяти. Во мне ровно шесть футов и полдюйма, согласитесь — прекрасный рост для мужчины. Вес колеблется между 190 и 220 фунтами, в этом тоже нет ничего необычного, хотя, вынужден признать, в течение года он несколько увеличивается, поэтому каждый год в январе я сажусь на жесткую диету и не позволяю себе никаких гурманских излишеств до августа, когда с наступлением холодов возникает потребность в небольшой жировой прослойке. С волосами мне повезло: некогда густые, темные и благословенные легкой волной, они до сих пор противостоят соблазну выпасть все разом — лишь немного истончились на макушке и слегка поседели. Кожа у меня смуглая и, хоть я признаю, что под глазами имеются небольшие складки, только самые предвзятые критики могут допустить, что у меня есть морщины. Уже много лет как мужчины, так и женщины — таких немало — считают меня привлекательным и не лишенным ярко выраженного шарма.
Мне чрезвычайно льстит, когда говорят, что мне и пятидесяти не дашь. Вот уже очень долго я не могу утверждать, не кривя душой, что еще не прожил и полувека. Это всего лишь возраст, или, по крайней мере, визуальное представление о возрасте, в котором я застрял на бо́льшую часть 256 лет своей жизни. Я — старый человек. Возможно, выгляжу я сравнительно молодо и по физическим параметрам ничем не отличаюсь от большинства мужчин, родившихся, когда Белым домом руководил Трумэн[1], но я несравненно дальше от их буйного цветения юности. Я давно уже понял, что внешность — обманчивее прочих людских черт, и рад тому, что сам стал живым доказательством этой теории.
Я родился в Париже в 1743 году, когда правили Бурбоны: на троне сидел Людовик XV, и в городе царил относительный покой. Само собой, я мало что помню о тогдашней политической обстановке, но у меня сохранились отрывочные воспоминания о моих родителях — Жане и Мари Заилль. Наша семья была довольно обеспеченной, несмотря на то, что в те годы Франция переживала ряд финансовых кризисов; страна, казалось, существовала под сенью бесконечных войн, которые выкачивали из городов как природные ресурсы, так и тех людей, которые могли бы их добывать.
Мой отец умер, когда мне было четыре года, но он не сложил голову на поле брани. Он работал переписчиком у знаменитого в те времена драматурга, чье имя назвать я могу, но, поскольку и он сам, и его работы ныне полностью забыты, имя это вам ровным счетом ничего не скажет. Я принял решение не упоминать здесь никому не известные имена, чтобы не превратить эти воспоминания в подобие переписи населения, — вы же понимаете, с каким количеством людей мне довелось познакомиться за 256 лет. Мой отец был убит, когда поздним вечером возвращался из театра домой, кем — бог знает? Его пригвоздили к земле, вонзив что–то острое в затылок, а потом перерезали горло. Убийцу так и не поймали — подобные преступления и в те дни были обычным делом, а правосудие по сей день далеко от совершенства. Но драматург был добрым человеком — он назначил моей матери пенсию, так что до конца ее жизни нам голодать не приходилось.
Моя мать, Мари, прожила до 1758 года — она снова вышла замуж за актера из труппы, с которой работал мой отец, некоего Филиппа Дюмарке, страдавшего манией величия — он даже утверждал, что ему довелось выступать в Риме перед Папой Бенедиктом XIV; матушка раз посмеялась над этим, и любящий супруг избил ее. Брак не был счастливым — его омрачало постоянное насилие, но в результате этого союза на свет появился сын, мой сводный брат по имени Тома; его имя до сих пор остается семейным. Пра–пра–пра–пра–пра–правнук Тома — Томми — живет теперь в паре миль от меня, в центре Лондона, мы с ним регулярно вместе обедаем, и всякий раз я «одалживаю» ему денег, чтобы оплатить счета, неуклонно растущие вследствие его экстравагантного и претенциозного образа жизни, — я уж не говорю о счетах за так называемые «лекарства».
Этому парню всего двадцать два года, но я очень сомневаюсь, что он доживет до двадцати трех. Его ноздри буквально выжжены кокаином, которым он заряжается последние восемь лет, нос все время подрагивает, как у старой ведьмы, а вечно отсутствующие глаза остекленели. Когда мы с ним обедаем, по счету всегда, разумеется, плачу я; он либо нервически взвинчен, либо в тяжелой депрессии. Я видел его и в истерике, и в ступоре — даже не знаю, какое из этих состояний предпочтительнее. Подчас он вдруг начинает хохотать безо всяких на то причин и неизменно исчезает, ссылаясь на неотложные дела, — сразу же после того, как я даю ему денег. Я бы попытался ему как–то помочь, но с его родом всегда было сложно иметь дело — все его предки, как вы увидите, кончили плохо, так что смысла в помощи немного. Я давно миновал тот возраст, когда хочется вмешиваться в их жизни. Да они и не ценят мою помощь. Я знаю, что не должен слишком привязываться к мальчикам, ибо все эти Тома, Томасы, Томы и Томми неизбежно умирают молодыми, а за углом меня уже поджидает следующий, от которого опять будут одни хлопоты. И в самом деле, не далее как неделю назад Томми сообщил мне, что «обрюхатил», как он очаровательно выразился, свою теперешнюю подружку, так что, исходя из прошлого опыта, можно сделать вывод, что его дни сочтены. Теперь середина лета, дитя родится под Рождество и станет продолжателем рода Дюмарке; стало быть, Томми, как самец «черной вдовы», свое отжил.