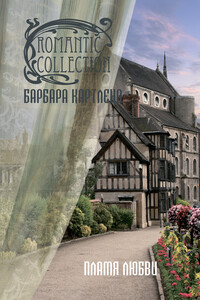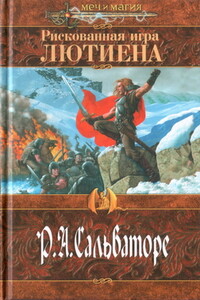— Черт! Ну и вид у меня!
Привстав с сиденья вагона, Мона посмотрела на себя в зеркало. Она сильно исхудала, и под глазами залегли глубокие темные тени.
«И украшения здесь не к месту», — мысленно добавила она. Сняла с плеча бриллиантовую брошь — и надолго задумалась, глядя на нее невидящим взором.
Брошь была очаровательна. Россыпь бриллиантов в платиновой оправе — французская ручная работа: известно, что в целом свете не найдется ювелиров лучше, чем во Франции.
Но не о красоте этой драгоценности думала Мона, рассеянно вертя брошь в пальцах, а затем вдруг, с гримасой боли, словно не в силах больше смотреть, торопливо убирая ее в сумочку.
Она помнила, как Лайонел подарил ей эту брошь, — помнила так живо, словно все произошло вчера!
Это было в Неаполе. В тот вечер они поужинали вместе, а потом, незадолго до полуночи, вышли на широкий мраморный балкон.
Под ними, призывно сверкая и мигая золотом огней, раскинулся город. Вдалеке темнел на бархатном фоне небес силуэт Везувия. А где-то неподалеку юный голос дивной красоты выводил серенаду.
Стояла тихая, ясная ночь — ночь, когда звезды отражаются в морских волнах, вздымающихся и опускающихся тихо и плавно, словно грудь спящей красавицы.
Мона оперлась на холодный мрамор балюстрады. Она чувствовала, как обвевает ее лицо нежный ночной ветерок, вдыхала аромат цветов, слышала отдаленный шум города — и негромкий голос Лайонела:
— Милая, ты счастлива?
Она повернулась к нему. Слов не требовалось — ответ он прочел в ее глазах, в молчаливом призыве приоткрытых губ.
В этот миг, ворвавшись в их зачарованный мир для двоих, со всех концов города послышался разноголосый мелодичный бой часов — наступила полночь.
— Милая моя, впереди у нас с тобой еще много-много счастливых дней!
С этими словами Лайонел прильнул к ее губам; на мгновение они словно слились воедино — ошеломляющий миг, пронизанный чудом любви. Мона закрыла глаза, желая лишь одного — чтобы этот миг длился вечно.
Но вот он отпустил ее и извлек из кармана коробочку, обтянутую кожей.
— Это тебе, моя радость.
Она открыла глаза, хотела его поблагодарить, но не сразу сумела оторвать взгляд от любимого и обратить внимание на его подарок. Наконец открыла коробочку — и ахнула.
— Какая красота! Помоги мне ее надеть!
Лайонел прикрепил брошь под глубоким вырезом платья, в ложбинке меж грудей.
— Тебе идет, — сказал он.
Думая о его прикосновении куда больше, чем о подарке, она прошептала:
— Хотела бы я, чтобы она осталась здесь навсегда! И мы с тобой — тоже…
— А я, милая, предпочел бы переместиться в какой-нибудь более укромный уголок! — рассмеялся он, и Мона, не ожидавшая такого резкого перехода от романтики к веселью, рассмеялась вместе с ним.
Как чудесно провели они ту ночь! Сколько ей было тогда? Девятнадцать? Нет, уже двадцать. Пять лет назад! А кажется, будто прошла целая жизнь. И это безумное, головокружительное счастье осталось где-то в иной вселенной…
Мона вдруг сообразила, что по-прежнему стоит, невидящим взглядом уставившись на свое отражение в зеркале. Брошь исчезла, но общий вид не слишком изменился. Покрой платья, боа из чернобурки, изящно уложенные золотисто-рыжие локоны — все выдавало в ней «девушку из высшего общества», все кричало об элегантности и богатстве. Да, в Литтл-Коббле все это будет не слишком уместно.
А впрочем, какая разница? Мона скорчила своему отражению презрительную гримаску, но все же отколола от меха на плече букетик орхидей. Пурпурных орхидей — хрупких, экзотических и романтичных.
Интересно, скоро ли ей в следующий раз подарят орхидеи — если подарят вообще? Тот человек был очень мил — послал за ними аж в Лиссабон.
— На счастье, — проговорил он, прощаясь с ней.
Она протянула ему руку для поцелуя, а потом позволила поцеловать и в щеку. Не все ли равно? Весь этот месяц, пока она ждала места на самолете, чтобы улететь домой, он был добр к ней — а больше она никогда его не увидит.
Кто-то однажды сказал ей: «Вы созданы для орхидей». Кто — Мона давно забыла, но хорошо помнила, каким тоном это было сказано. Быть может, этот безымянный кто-то прав. Орхидеи — цветы без запаха… красивые и бесполезные.
«Как я, — думала Мона. — Живое украшение… без души».
И тут же рассмеялась над патетичностью этой мысли.
«Кажется, я начинаю занудствовать и жалеть себя. Этого еще не хватало!»
Она выглянула в окно. «Через несколько минут будем на месте».
Поезд мчался по памятным ей местам. Хмурые, унылые равнины, и с погодой на небесах как будто нарочно подгадали: серый денек, туман на горизонте, мокрые поля, земля, раскисшая от прошедших дождей.
«Типичная английская погода, — сказала себе Мона. — Пора бы и привыкнуть».
Страшно подумать, сколько времени прошло с тех пор, как она в последний раз ощущала на себе промозглую сырость английской зимы. Кажется, четыре года — или пять? Мона не помнила, когда была дома в последний раз; впрочем, мать непременно ей напомнит.
При мысли о матери Мона нетерпеливо тряхнула головой. Вот она, истинная причина ее уныния. Милая мамочка — с каким же нетерпением она ждет! Небось и упитанного тельца заколола, чтобы как следует встретить блудную дочь!