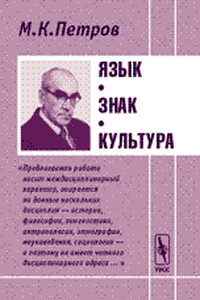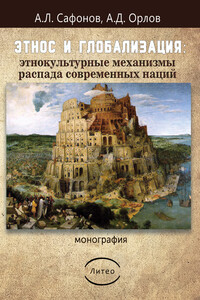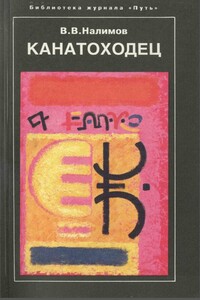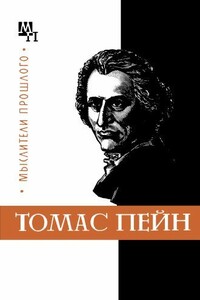Когда жизнь сталкивает и надолго удерживает вместе писателей, художников, ученых, философов, политиков, будь то в палате или в палатке, у операционной или у костра, не миновать разговора о творчестве, о смысле, о личности, о свободе и ответственности. Всякий раз разговор этот движется в странном каком-то русле сходящихся берегов: день ото дня сближаются и растут обрывы непонимания, все уже фарватер, все больше на нем коряг и мелей. Так и кажется, что где-то там, за ближайшими поворотами, все кончится тупиком - болотцем или тощим родничком житейского неторопливого быта. А потом долго еще не заживают раны и ссадины несостоявшегося разговора, ноют занозы щепок и колючек, которые и вытаскивать-то страшно, потому как без них и вообще ничего нет - пусто. Диалог глухих - так это принято называть. Но в действительно это выглядит еще хуже: глухие объясняются на пальцах, а здесь и пальцы не помогают, как если бы встретились на симпозиуме, шумят, веселятся, горюют глухие и слепые. И все же хочется надеяться, что тупика нет. Индукция - не жена Цезаря, и даже десяток разговоров не всегда предопределяют одиннадцатый. Хочется верить, что за ближайшим поворотом не болото, а плес взаимопонимания. Только нужно вот вытянуть, выгрести, проскочить мели. Ведь дело-то не в том, что все мы в одной лодке, а в том, что есть в этой лодке нечто весьма более ценное и важное, чем любой из нас, чего нельзя утопить, бросить, пустить вниз по течению. Стоит попробовать понять друг друга, сегодня это просто необходимо.
Отсюда мы и начинаем разговор об искусстве и науке, поскольку, нам кажется, именно писатель и ученый образуют сегодня два полюса взаимонепонимания, где ответы на вопросы типа: «Вы читали Шекспира?», «Вы слышали об эксперименте Янга и Ли?»,
>Янг (Ян Чжэньнин, р. 1922) и Ли Цзувдао (р. 1926) - физики теоретики, в 1956 г. выдвинувшие гипотезу о несохранении четности в слабых взаимодействиях, нобелевские лауреаты 1957 г. - С.Н.
признаются равносильными доказательствами приобщенности человека к миру культуры или дремучего его невежества. Автор этих заметок - философ, и как философу ему менее всего приходится рассчитывать на то, что стену непонимания можно разбить одним ударом. Таких вещей не бывает, здесь действует закон Аристотеля, по которому много и многим нужно искать и находить, чтобы получить заметную величину. Поэтому все, о чем будет написано ниже, следует понимать не как изложение какой-то установившейся и претендующей на полноту концепции, с которой, конечно же, вряд ли кому придет в голову соглашаться, а как приглашение к разговору, к совместному поиску почвы для разговора.
После бурных дискуссий физиков и лириков о совершенствах и несовершенствах природы человеческой, о машине и человеке, об искусственном и естественном, все как будто бы уже выяснено между наукой и искусством, спор затих. Доведенные на тренажерах до машинных кондиций космонавты наскоро слушают лекции по эстетике, пришивают дополнительные карманы для томиков Есенина, отбывают в миры иные, а оставленные на родной земле гуманитарные магдалины льют слезы в океан разлук, с беспокойством прикидывают сроки второго пришествия. Все успокоилось, только кое-где прорвется еще физическое, полузадушенное: «А все равно она мыслит!», да прошелестит лирический шепоток: «На-кось, выкуси!».
В самом деле, совсем еще недавно гремели трубы и литавры генерального, последнего вторжения. Точные методы шли на штурм гуманитарных заповедников. Неслись отовсюду победные реляции: Машина переводит! Машина сочиняет стихи! Машина выдает ученому всю необходимую информацию! Машина судит! Машина выбирает президентов! В упоении первыми успехами мечталось о божественном и великом. Не сотворить ли из полупроводниковой глины какую-нибудь цивилизацию? Не организовать ли науку без ученых? Не приспособить ли человеку портативную память объемом с Ленинку? Даже самые трезвые головы несли дань машине. Дж. Бернал, например три года назад писал о биологическом барьере и его прорыве: «Этот прорыв разума за пределы биологических ограничений приведет в конечном счете к новому симбиозу машины и человека. Раньше человек использовал машины. Теперь человек и машина образуют единое целое. Они могут и должны будут научиться думать вместе» (1, с. 265).
А вот сегодня ничего этого нет. С боем завоеванные позиции отдаются скромно и без лишней шумихи. Мелькнет в «Science» сообщение о прекращении ассигнований на работы по машинному переводу. Недавний энтузиаст, следуя примеру Н. Винера, членораздельно и ясно пройдется по адресу «машинопоклонников». Экономист вдруг прикинет расходы на программирование, на постредакцию, на машинное время и схватится за голову.
Что же случилось? Что кроется за этим смущенным ропотом отступления, за «фундаментальными трудностями», «полувероятностными заключениями», «миграционными характеристиками», «родительскими группами», «типологическим развитием» и т.п.? Если попытаться выразить все эти неодолимые помехи одним словом, то самым подходящим было бы творчество. Правда, речь здесь идет не о творчестве в традиционном его понимании или, вернее, непонимании; не о творчестве экстаза, горения, озарения и т.д. Творчество приобретает более четкие контуры, предстает чем-то более обыденным, простым и понятным - особым типом человеческой деятельности, которая совершается по своим правилам и несет определенную социальную функцию. Попытки исследовать точными методами язык, поэзию, музыку, художественную прозу, системы коммуникации и информации, хотя они и не дали ожидаемых результатов, не прошли даром. Они вскрыли, привели в связь группу давно известных в общем-то явлений, то есть, говоря философским языком, опредметили творчество как таковое, сыграли по отношению к творчеству ту роль, которую сыграл по отношению к Журдену учитель философии. Возникли условия для самосознания творчества, ибо те самые камни преткновения, которые вскрывались по ходу исследований как «фундаментальные трудности», оказались вместе с тем и фундаментальными характеристиками самого творчества.