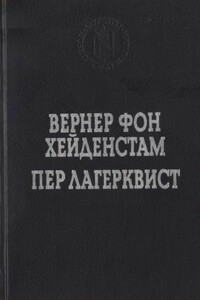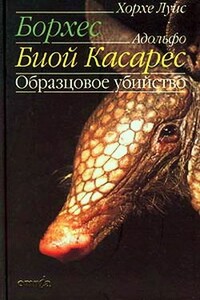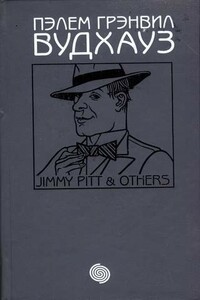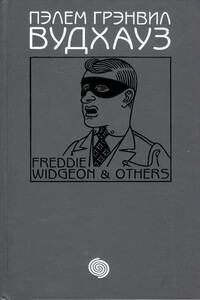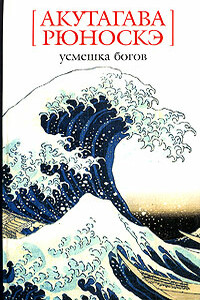Помню, когда мне было лет десять, как-то в воскресенье после обеда отец взял меня за руку и мы собрались в лес послушать пение птиц. Мы попрощались с мамой: она осталась дома готовить обед. Было солнечно, тепло, и мы бодро пустились в путь. Мы не то чтобы придавали особое значение пению птиц — подумаешь, эка важность! — мы оба были здоровые и разумные люди, жили среди природы и привыкли смотреть на нее не суетясь, не заискивая. Просто день был воскресный, и отец был свободен. Мы шагали по шпалам, вообще-то ходить там запрещалось, но отец работал на железной дороге, и ему было можно. Так мы вышли прямо к лесу, без крюков и обходных маневров.
Опушка встретила нас пением птиц и всем прочим. В кустах чирикали зяблики и пеночки, воробьи и певчие дрозды, — словом, стоял обычный лесной гвалт. Земля пестрела подснежниками, на березах только что распустились почки и ветки покрылись свежими побегами, отовсюду неслись запахи, и лес дышал испарениями — так припекало. Кругом была жизнь: из норок вылетали шмели, комары толклись над топью, а из кустов то и дело стрелой выскакивали птицы, чтоб на лету схватить их и тотчас исчезнуть. Мимо промчался поезд — мы спустились со шпал, отец поздоровался с машинистом, приложив два пальца к своей выходной шляпе, машинист отдал ему честь и помахал рукой; поезд шел на полной скорости. И снова мы шли по шпалам, потевшим на солнце смолой, а воздух пах машинным маслом и миндалем, вереском и смолой. Мы широко перешагивали со шпалы на шпалу, чтоб не обдирать ботинки о грубый щебень. Рельсы блестели на солнце. По обеим сторонам линии высились телеграфные столбы, они тихо гудели, когда мы проходили мимо. Что говорить, день был чудесный. Небо чистое, ни единого облачка, да и откуда взяться облачку в такую погоду — так папа сказал. Мы дошли до овсяного поля справа от линии, где один наш знакомый торпарь[1] держал подсеку. Овес рос плотно и ровно. Отец оглядел поле с придирчивостью хозяина и, кажется, остался доволен. Я не очень-то разбирался в овсах, ведь как-никак я родился в городе. Потом мы по мосту перешли ручей, обычно он был мелковатый, но в этот день там бурлила вода. Мы держались за руки, чтоб не оступиться. Так мы добрались до жилья обходчика, тонувшего в зелени яблонь и кустов крыжовника. Подошли к дому, поздоровались с хозяевами, они угостили нас молоком и показали нам своих кур, поросят, фруктовые деревья в цвету. И мы пошли дальше. Нам хотелось дойти до реки, потому что там было необычайно красиво, а вдобавок она протекала мимо дома, где прошло детство отца. Именно здесь кончались наши прогулки, и сегодня тоже. Станция была совсем рядом, но мы свернули к реке. Отец только взглянул, исправен ли семафор, — вот он какой: всегда обо всем подумает. Мы остановились у реки, слушая веселый шум воды. Река в этом месте разливалась широко и сверкала под солнцем. Густые прибрежные заросли отражались в воде, все было светло и свежо, с заводей поддувал ветерок. Мы спустились по склону и прошли немного берегом. Отец показывал мне рыбные места. Мальчишкой он сидел здесь на камнях и целыми днями удил окуней, иной раз ловилось плохо, но все равно не жизнь, а благодать, — жаль, теперь вот времени нет. Мы бродили по берегу, пускали по течению кусочки коры, бросали в воду камешки — кто дальше, нам было весело, мы наслаждались: и я, и отец. Наконец оба устали и решили, что на сегодня хватит, пора домой.
Начало смеркаться. Лес на глазах менял очертания, было еще не совсем темно, но почти. Мы заторопились. Мама, наверное, заждалась. Она всегда боялась, как бы с нами чего не случилось. Но что могло с нами случиться? В такой великолепный день! Все прошло чудесно, мы были довольны. Сумерки сгущались. Деревья стали какие-то странные. Они прислушивались к каждому нашему шагу, будто не узнавая. На одном сидел светлячок. Сидел и смотрел на нас. Я схватил отца за руку, но он не увидел этого странного света и прошел мимо. Совсем стемнело. Мы подошли к мосту через ручей. Внизу гремело так, словно там открылась бездна и хотела поглотить нас. Мы осторожно шагали по шпалам, держась за руки, судорожно вцепившись друг в друга, чтобы не упасть. Я думал, отец перенесет меня через мост, а он не стал, он хотел, чтоб я был как он, чтоб я не боялся. Мы шли и шли. Отец шагал в темноте спокойно, размеренно, молчал и думал о своем. Я не мог понять, как это он спокоен, когда кругом такая темень. Я испуганно озирался по сторонам. Кромешная тьма. Обмирая от страха, я даже глубоко дышать не смел: вдруг темнота проникнет внутрь и задушит меня? Так мне казалось в те минуты. Железнодорожная насыпь круто уходила вниз, в черноту, в ночную бездну. Телеграфные столбы тянулись к небу, как призраки, внутри у них что-то глухо клокотало, будто из-под земли шли голоса, а белые фарфоровые шляпки на столбах как бы испуганно съежились, прислушиваясь. Страшно. Все стало ненастоящее, чужое, точно в сне. Я прижался к отцу и прошептал:
— Папа, почему так страшно, когда темно?
— Что ты, малыш, не страшно, — ответил отец и взял меня за руку.
— Очень страшно, папа.