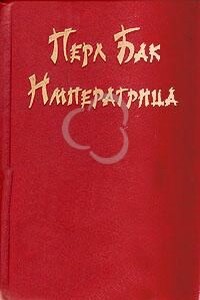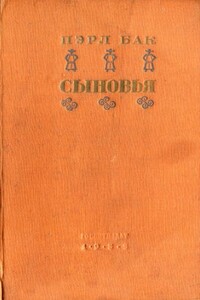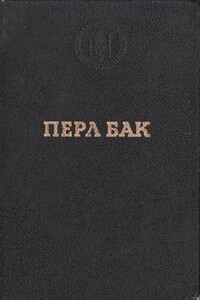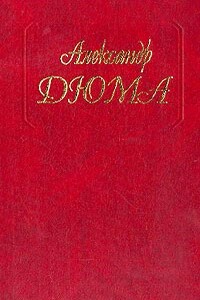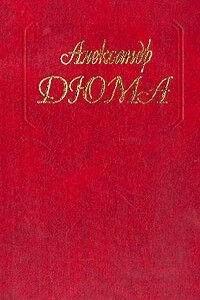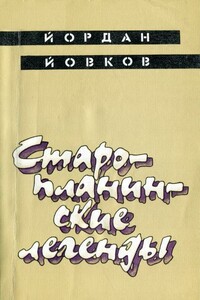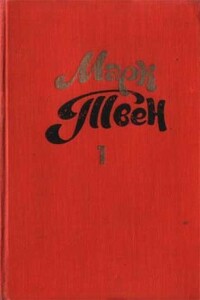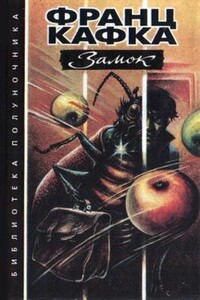Отец Андреа жил весь день ради ночных часов, когда он мог изучать звезды. Дни в его приходе в китайском городе были длинны и переполнены людьми: все что-то кричали, просили, жаловались, а ночи кратки и наполнены светом тихих мирных звезд, сиявших, как лампады на темно-лиловом небе. Ему всегда не хватало звезд. Часы за телескопом пролетали так быстро, что он нередко вспоминал о сне, когда на востоке уже светало, и пурпурное великолепие звезд блекло. Но ему не нужен был сон. Он возвращался к дневным заботам, освеженный и взбодренный часами свидания с золотыми звездами, когда голоса людей, требовавшие его весь день, забывались кратким сном. «Благословен будь сон!» — говорил он сам себе с усмешкой, поднимаясь по ступенькам в крохотную обсерваторию, которую соорудил себе на крыше школы.
Он был маленький, плотный, улыбчивый, и ничто во внешнем облике не раскрывало его мягкую, исполненную неразгаданных тайн душу. И если бы знать лишь его яблочные щеки, темную бороду и алый улыбающийся рот, то его можно было бы посчитать страстным любовником мира зримого. И нужно было заглянуть ему в глаза, чтобы увидеть, что влюблен он в вещи незримые. Его губы продолжали улыбаться, даже когда корчился с причитаниями у его ног прокаженный, или когда в ворота миссии вбегала с плачем девочка-рабыня. Но глаза его, глубокие и темные, часто наполнялись слезами.
Днем он поднимал руками прокаженных, обмывал, кормил и утешал их, и смазывал елеем их раны. Он становился между девочкой-рабыней и ее злой бранчливой хозяйкой, и улыбался, ждал, говорил тихим неутомимым воркующим голосом. И злой голос хозяйки возносился над ним, как буря над журчащим ручьем, но чуть раньше или чуть позже его ласковая неутомимая речь брала верх, и женщина угрюмо садилась в ответ на его приглашение в почетное кресло справа от квадратного стола в маленькой гостиной и попивала глоточками чай, который приносил слуга. И тогда с маленькими скорбными темными глазами над улыбающимся ртом он продолжал нахваливать и увещевать, и сожалеть, и мягко намекать на необходимость лучшего, пока, в конце концов, рабыня не уходила вместе с хозяйкой. Он не надеялся помочь людям избавиться от того, что цепко держало их, и хотел лишь помочь им легче сносить неизбежное бремя, возложенное на них жизнью. Он был уверен только в одном: нельзя избавиться от тягот, которые несет с собой сама жизнь.
По утрам он беседовал с мальчиками в своей школе, и однажды вдруг потянуло его на такую откровенность, какой прежде и не бывало:
— Сыны мои, я должен сказать вам нечто. Когда вы были маленькими, вы наверно, думали, что пойдете в школу, и тогда освободитесь от власти родителей. А в школе мечтаете, что когда-нибудь станете взрослыми, и тогда не будет над вами учителей, которых надо слушаться. Но вы никогда не станете свободны! Ваши бессмертные души, обретя плоть, стали, как и Сын Человеческий, связаны узами. Никто из людей не свободен — мы не свободны друг от друга, и мы никогда не будем свободны от Бога.
Нужно не тщетно взывать к свободе, а радостно искать, как сносить возложенное на нас бремя. Даже звезды в небесах не свободны. Они тоже должны следовать путями, которые начертал им закон, и если они предадутся своеволью, то разрушат Вселенную. Вы ведь видели падающие звезды на летнем небе. Сколь красивы казались они в вольном полете, во вспышках света и великолепии среди серых туч! Но конец их всегда — лишь разрушение и тьма.
Китайчата в синих курточках смотрели на него широко раскрытыми глазами, удивляясь страсти спокойного голоса и непривычной строгости его круглого улыбчивого лица. Они совсем не понимали его.
Весь день он постоянно спешил маленькими шажками по каким-то делам, а утро начиналось с мессы, которую он служил перед горсткой верных старушек: они приходили аккуратно одетые в тряпичные пальто и штаны, обмотанные черными платками. Иногда его огорчало, что старушки почти ничего не понимали из его слов. Его китайский всегда был далек от совершенства: говорил он на итальянский манер, проглатывая конечные согласные и совсем не справляясь с гортанными звуками. Но, в конце концов, глядя на их терпеливые лица, обращенные к Богородице и Ее Сыну, он решил, что не так уж важно, понимают ли они слова, если смотрят на образ и пытаются проникнуть в его суть.
Перед полуднем он пытался вести уроки в школе для мальчиков, но это оказывалось почти всегда пропащим делом, потому что в любую минуту его могли позвать из класса улаживать дела бедняков.
— Отец, вчера вечером я продал этому человеку риса на десять пенсов, и он обещал заплатить мне утром, а сейчас он съел рис и говорит, что у него нет денег.
Перед ним стояли двое мужчин в штанах кули с голыми, почти черными от загара спинами, и оба были злы, и оба не хотели ничего знать.
— Ты послушай, тогда мой желудок был пуст, но разве я должен страдать, если у тебя есть еда? Революционеры уже идут, и когда они придут, все люди, вроде тебя, у которых есть рис, должны будут отдать его нам, у кого риса нет, и не спрашивать никаких денег!
Оба испепеляли друг друга глазами, как петухи перед боем, а Отец Андреа положил свои руки на руку каждого из них, и руки досказывали то, что начали говорить глаза, маленькие, загорелые, очень правильной формы руки, в трещинах и морщинах, от того что он слишком часто мыл и оттирал их. Одна из мук его жизни состояла в том, что он был не в силах заставить себя коснуться темных немытых тел без содрогания духа. Его одолевало неотвязное желание мыть и мыть руки, и они всегда чуть пахли карболовым мылом.