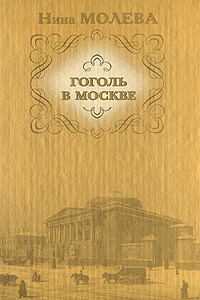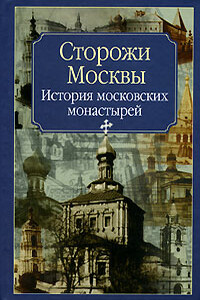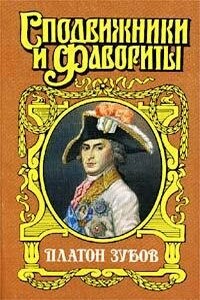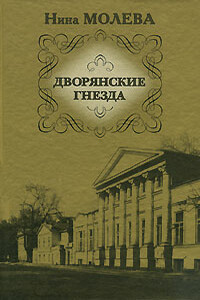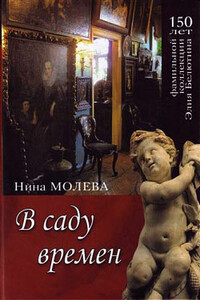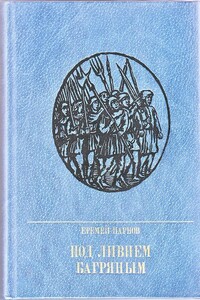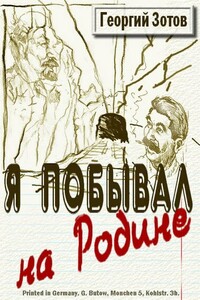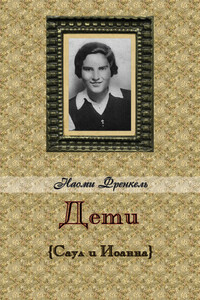Начало этой истории имело свой адрес. Московский. Почти почтовый. Угол Пятницкой улицы и Климентовского переулка.
Те, кто жил в старом Замоскворечье – не в том, времен Островского, но в послевоенном и все-таки по-настоящему старом, – знают: оно было очень разным. Татарская – с минаретом мечети, далеко растянувшимися корпусами завода Орджоникидзе и пустынными сумерками на булыжной мостовой. Проросшая курчавой зеленью Новокузнецкая – с задорным треньканьем изредка пробегавшей «Аннушки», нарядными особняками в глубине когда-то ухоженных просторных садов и жидким воскресным перезвоном колоколов Николы в Кузнецах. Большая Ордынка – в строю строго рассаженных лип и купеческих домов за густо крашенными дощатыми заборами и филенчатыми калитками с непременным чугунным кольцом. Но самой главной была, конечно, Пятницкая.
Слов нет, Ордынка и Полянка выходили на мосты, за которыми рисовались башни Кремля. От Пятницкой же тесная застройка Балчуга скрывала настоящую реку. Но важнее Пятницкая была и потому, что по ней шло много трамваев – неуемный железный грохот говорил о большом городе. И потому, что только на ней теснились магазины: от Климентовского до Канавы. Кто вспомнит сегодня, что так, и только так, называли еще недавно Водоотводный канал. Климентовский был границей замоскворецкого Сити. И это до него добирались последние ослабевшие ручейки москворецкого половодья, от которого в конце каждой зимы закрывались и смолились отдушины подвалов.
У Климентовского сидела в своей круглой будке закутанная в байковый платок стрелочница, выбиравшая путь для трамвая. К Климентовскому бегали в угловую булочную за теплым ржаным хлебом и в единственную в округе китайскую прачечную. Сюда направлялись с примусами и ключами к колченогому дяде Васе, колдовавшему в щели между сараями, и в такую же крохотную кладовочку-фотографию за мутно-желтыми «пятиминутками».
У Климентовского можно было купить скороходовские ботинки и жидкие примулы во вспотевших горшках, капли датского короля в растянувшейся вдоль низеньких окон аптеке и чуть дальше эклеры с заварным кремом у мраморных столиков кондитерской с огромными китайскими вазами на витринах.
Но и среди каждодневной толчеи Климент оставался единственным – к нему нельзя было привыкнуть и невозможно перестать замечать. В пушистом налете серебрившего стены инея. Чернеющих потеках летнего ливня. Среди поднимавшихся до окон сугробов. Через зыбкую сетку обещающей прорезаться майской зелени. Сначала за растянутыми между грузными каменными столбами узорными решетками: стебель – лист – завиток – снова пружинящий, рвущийся к верхушке ограды стебель. Узор читался даже тогда, когда густые лиловые гроздья гнули к земле добела пропыленную сирень.
Потом решетки увезли. Где-то, кажется, поставили. У чужих стен. Ограду сломали. На месте сирени вырыли общественный туалет. Уныло вылепленный из крошившегося цемента, он годами не открывался, но упрямо заставлял помнить о себе чугунными мачтами с лампионами молочных фонарей. Под фонарями виднелись углы обомшелых могильных камней. Кто-то что-то говорил о старом кладбище. И только через много лет пришло знание: хоронить в городе запретили после чумы 1771 года – исчезнувшие, в конце концов, без следа надгробия должны были быть старше. Много старше.
Неудобно выдвинувшийся на улицу, Климент стал больше походить на дом. Непонятно торжественный даже в своем запустении среди замоскворецких переулков. И все-таки чем-то неуловимым связанный с ними. По-прежнему молчаливый. Наглухо закрытый. В темных провалах никогда не освещавшихся окон. Ступени у его дверей выступили под ноги прохожим. Стекла барабанов почему-то побились. И высоко вверху было видно, как влетали в них, прячась от непогоды, сизари.
Только он умел быть и иным. В волглой тени тесно придвинувшегося к Клименту бесформенного краснокирпичного дома дверь подъезда словно западала в землю. Узкие ступени карабкались от одной усыпанной звонками и фамилиями площадки до другой. Пелена немытых окон серела глухой стеной, чтобы где-то наверху прорваться радостной сумятицей колонн, колонок, лепных гирлянд, толстощеких детских голов. Климент словно входил в подъезд, чтобы улыбнуться улыбкой, похожей на солнечные летние дни Царского Села, Петергофа, даже Зимнего дворца. Беспечной и манящей улыбкой XVIII века. Растрескавшаяся штукатурка, облетевшая лепнина, затеки побуревшего цвета в прихотливых переборах солнечных лучей заставляли вспоминать не о столь необходимом ремонте, не сделанном вовремя, а о великолепных руинах, которыми так увлекались итальянские мастера гравюры и живописи.
Мимо Климента лежала дорога в университет, и мимо Климента она вела в Третьяковскую галерею. Университетские занятия шли по вечерам в пустых и гулких музейных залах. Каждый вечер еще десяток новых картин и всегда повторение пройденного – к ним надо было дойти через уже знакомые, раз от раза становившиеся все более близкими стены.
И по мере того как понятней становились вехи истории, угрюмое одиночество Климента привлекало все больше. Россыпь архитектурных понятий – что как назвать. Потом их сочетания, складывающиеся в язык времени. Потом время… Со временем было труднее всего. Знакомое название среди бесконечного списка тем для курсовых работ было радостной неожиданностью. Климент, его атрибуция, определение времени и обстоятельств строительства – все начинало рисоваться простым и досягаемым. Передо мной был ключ, который оставалось вложить в заветный замок.