Ошибка канцлера - [3]
– Прошу прощения, милорд, неудача в политической игре – понятие далеко не абсолютное. Отказ Голландских штатов поддержать Русское государство в войне с Турцией ничего не изменил в том, что Азов уже принадлежал русским, а с созданием собственного флота их потребность в поддержке со стороны западных держав существенно уменьшалась. «Тот, кто играет, тот всегда свое возьмет иль тем, иль этим» – так, помнится, писал этот испанец Лопе де Вега.
– Что ж, займемся в таком случае вашим Гюйзеном. Его реальная роль при русском дворе – почему мне знакомы иные имена воспитателей царевича? Если не ошибаюсь, это были генерал Карлович, саксонец Нейгебауер, но Гюйзен…
– Позволю себе напомнить последовательность событий, милорд. По возвращении из Англии царь Петр решил направить своего сына учиться в Дрезден под руководством генерала Карловича. Однако смерть генерала заставила Петра пересмотреть свое решение. Царевич был оставлен в России, и к нему приглашен саксонец Нейгебауер, в прошлом учившийся в Лейпцигском университете. Нейгебауер не ужился с Меншиковым и через пару лет получил отставку. Именно его и заменил Гюйзен.
Граф А. П. Бестужев-Рюмин.
– Тоже получивший, в конце концов, отставку?
– Нет-нет, Гюйзен вполне удовлетворил Петра, но с 1705 года царь стал его использовать преимущественно для дипломатических миссий. Что говорить, Россия за это время достигла многого: она не только начала войну со Швецией – она успела взять Нарву, Иван-город, Дерпт.
– И Гюйзен исполнил хоть одну миссию?
– В Берлине и в Вене в том же 1705 году.
– Но теми миссиями руководил Петр Бестужев-Рюмин.
– Совершенно верно, милорд. И в данном случае в подготовке поездки Гюйзена участвует именно он.
– Кстати, что нам известно о Бестужеве?
– Бывший воевода в городе на Волге – Симбирске. Сорок один год. Два сына и дочь.
– Дипломатические миссии?
– В 1705 году первая.
– Причина назначения?
– Скорее всего, родственные связи жены. Его супруга Евдокия – дочь того самого Ивана Талызина, который побывал в Лондоне в 1662 году в составе русского посольства, спустя пять лет получил назначение послом в Польшу, позднее занимал значительные должности в Русском государстве.
– А его собственные связи при дворе?
– Дальние родственники среди стольников вдовствующей царицы Прасковьи, супруги старшего брата царя, близкие, подобно ему самому, в тех же званиях при Петре.
– Умен?
– Витворт не оговаривал специально этого обстоятельства. С Гюйзеном постоянно поддерживает хорошие отношения.
– Между прочим, ваш учитель не может принадлежать к числу тайных или явных сторонников царевича Алексея?
– Совершенно исключено.
– Откуда такая уверенность?
– Все официальное окружение царевича – люди, и притом довереннейшие, самого Петра.
– Царь может обманываться.
– Царь, но не Александр Меншиков.
– При чем здесь Меншиков?
– Это главный протектор Гюйзена.
– С этого и надо было начинать. И Бестужева-Рюмина?
– О нет. Меншиков и Бестужев терпят друг друга, не больше. Похоже, что Петр получает таким образом возможность перепроверять их действия.
– Если Меншиков и дальше сохранит свое положение исключительного царского любимца, у Бестужева будет слишком мало перспектив.
– Возможно, но пока он преисполнен энергии и ищет случая ее применить.
– Вы говорите о нем так, будто специально занимались его curiculum vitae, ученым жизнеописанием.
– Почти. Дело в том, что в Вене с ним близко познакомились лорд Рэби и сэр Степней.
– Ах так!
Москва
Преображенский дворец. Петр I и Г. И. Головкин
– Хошь не хошь, Гаврила Иваныч, а с Алешкой дело надо кончать. Боле года Александр твой при нем состоит, так что там у наследничка-то моего, как его «собор и компания» – так, что ли, они себя прозывают?
– Так, государь, именно так – «собор и компания». Что мне тебе сказать: хорошего – ничего, плохим сердце травить жалко. Нарышкиных, сам знаешь, сколько там набежало – целых пятеро. Вяземских столько же. У кого царевич ни учится, а все к первому наставнику прилежит – Никифор-то Вяземский у него на первом месте остается. Хитровых двое – отец да сын. Колычевых двое, так это по кормилице царевича, муж да сродственник Домоправитель тоже шебутной такой выискался – Федор Еварлаков, не столько дела сделает, сколько шуму поднимает, всех перебулгачит. Вот тебе и «компания».
– И людей-то стоящих нет, а вреда много.
– Много, кто спорит. Да заводилы-то не они. В заводилах «собор» состоит – там попов этих как есть не счесть.
– Откуда набежали?
– Да как же, государь, благовещенский ключарь – брат кормилицы, преосвященный Крутицкий Илларион, поп Леонтий из Грязной слободы в Москве, протопоп Алексей Васильев, а уж вреднее вредных духовник-то царевичев Яков Игнатьев. Вот этот и впрямь всем голова. Царевич только его словами и говорит, его думками думает.
– Слушай, Гаврила Иваныч, чтой-то недоглядел я, как он туда затесался?
– Доглядишь за ними, чернохвостыми. В Москву-то он уж лет двадцать как приехал. Дьяконом в Архангельском соборе стал, не показался там – строптив больно, да, видно, царевне Софье Алексеевне не перечил, братцу твоему покойному Ивану Алексеевичу потрафил, вот и перевели его протопопом в церковь Спаса на Верху. А как Гюйзена ты забрал, его духовником царевич себе и выбрал. Теперь вон гляди, какие письма любовные наставнику своему Алексей Петрович пишет – задержали мы в почте, что в Москву царевич посылал.
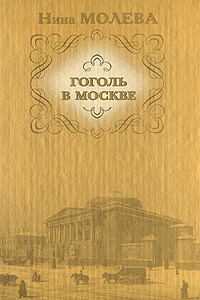
Гоголь дал зарок, что приедет в Москву только будучи знаменитым. Так и случилось. Эта странная, мистическая любовь писателя и города продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. Но как мало мы знаем о Москве Гоголя, о людях, с которыми он здесь встречался, о местах, где любил прогуливаться... О том, как его боготворила московская публика, которая несла гроб с телом семь верст на своих плечах до университетской церкви, где его будут отпевать. И о единственной женщине, по-настоящему любившей Гоголя, о женщине, которая так и не смогла пережить смерть великого русского писателя.
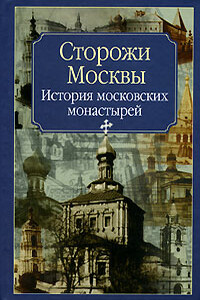
Сторожи – древнее название монастырей, что стояли на охране земель Руси. Сторожа – это не только средоточение веры, но и оплот средневекового образования, организатор торговли и ремесел.О двадцати четырех монастырях Москвы, одни из которых безвозвратно утеряны, а другие стоят и поныне – новая книга историка и искусствоведа, известного писателя Нины Молевой.
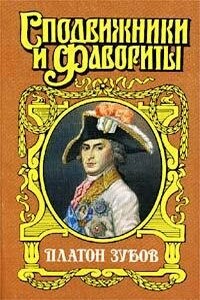
Новый роман известной писательницы-историка Нины Молевой рассказывает о жизни «последнего фаворита» императрицы Екатерины II П. А. Зубова (1767–1822).
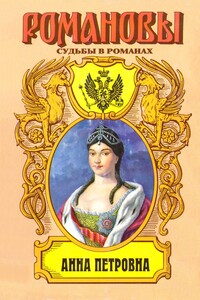
По мнению большинства историков, в недописанном завещании Петра I после слов «отдать всё...» должно было стоять имя его любимой дочери Анны. О жизни и судьбе цесаревны Анны Петровны (1708-1728), герцогини Голштинской, старшей дочери императора Петра I, рассказывает новый роман известной писательницы Нины Молевой.
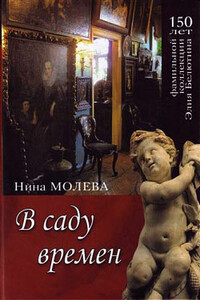
Эта книга необычна во всем. В ней совмещены научно-аргументированный каталог, биографии художников и живая история считающейся одной из лучших в Европе частных коллекций искусства XV–XVII веков, дополненной разделами Древнего Египта, Древнего Китая, Греции и Рима. В ткань повествования входят литературные портреты искусствоведов, реставраторов, художников, архитекторов, писателей, общавшихся с собранием на протяжении 150-летней истории.Заложенная в 1860-х годах художником Конторы императорских театров антрепренером И.Е.Гриневым, коллекция и по сей день пополняется его внуком – живописцем русского авангарда Элием Белютиным.
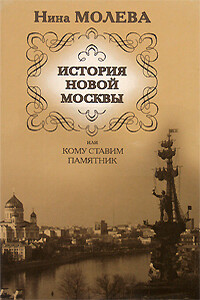
Петр I Зураба Церетели, скандальный памятник «Дети – жертвы пороков взрослых» Михаила Шемякина, «отдыхающий» Шаляпин… Москва меняется каждую минуту. Появляются новые памятники, захватывающие лучшие и ответственнейшие точки Москвы. Решение об их установке принимает Комиссия по монументальному искусству, членом которой является автор книги искусствовед и историк Нина Молева. Количество предложений, поступающих в Комиссию, таково, что Москва вполне могла бы рассчитывать ежегодно на установку 50 памятников.
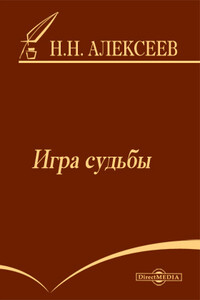
«В знойный, ясный июльский день 1768 года, по Луговой улице (ныне Морская), что прилегала к Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, часу в третьем дня, медленно двигалась огромная карета очень неказистого вида. Она вся вздрагивала, скрипела и звенела гайками при каждом толчке; казалось, вот-вот развалится допотопный экипаж; всюду виднелись какие-то веревочки и ремешки. Наверху ее были грудой навалены сундуки, ларцы и корзины самых разнообразных форм; позади, на особом плетеном сиденье, похожем на мешок из веревок, сидел парнишка лет пятнадцати и, разинув рот, поглядывал по сторонам…».
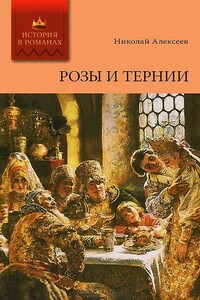
Николай Николаевич Алексеев (1871–1905) — писатель, выходец из дворян Петербургской губернии; сын штабс-капитана. Окончил петербургскую Введенскую гимназию. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Всю жизнь бедствовал, периодически зарабатывая репетиторством и литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством. В 1896 г. в газете «Биржевые ведомости» опубликовал первую повесть «Среди бед и напастей». В дальнейшем печатался в журналах «Живописное обозрение», «Беседа», «Исторический вестник», «Новый мир», «Русский паломник».
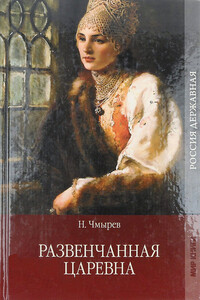
Николай Андреевич Чмырев (1852–1886) – литератор, педагог, высшее образование получил на юридическом факультете Московского университета. Преподавал географию в 1-й московской гимназии и школе межевых топографов. По выходе в отставку посвятил себя литературной деятельности, а незадолго до смерти получил место секретаря Серпуховской городской думы. Кроме повестей и рассказов, напечатанных им в период 1881–1886 гг. в «Московском листке», Чмырев перевел и издал «Кобзаря» Т. Г. Шевченко (1874), написал учебник «Конспект всеобщей и русской географии», выпустил отдельными изданиями около десяти своих книг – в основном исторические романы. В данном томе публикуются три произведения Чмырева.
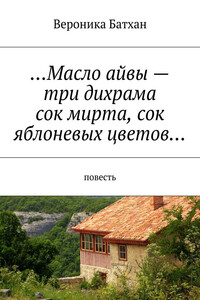
В тихом городе Кафа мирно старился Абу Салям, хитроумный торговец пряностями. Он прожил большую жизнь, много видел, многое пережил и давно не вспоминал, кем был раньше. Но однажды Разрушительница Собраний навестила забытую богом крепость, и Абу Саляму пришлось воскресить прошлое…

Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.

Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.