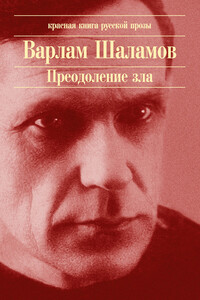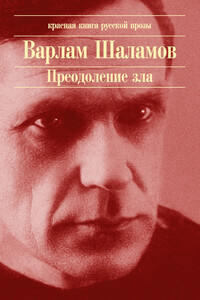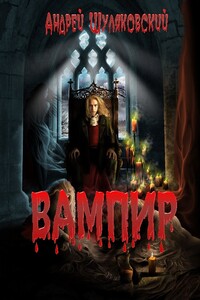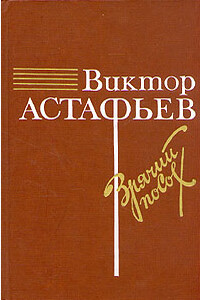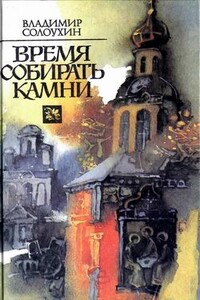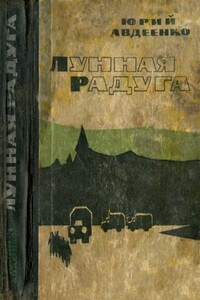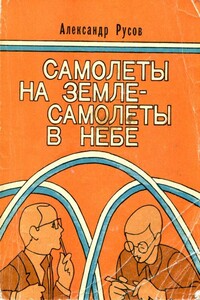В тот день, когда небо вспыхнуло заревом пожара, у меня лопнул аппендикс, и гноем залило весь живот. Меня положили на стол под большую лампу и спросили:
— Андрюс Шатас, вы умеете считать?
— Могу, если нужно, хоть до тысячи, — хвастливо ответил я и принялся старательно считать, но сбился и начал опять сначала.
А тем временем хлев Каминскасов уже полыхал в огне и языки пламени лизали небо. Брат моего отца Болесловас Шатас не был ни рядовым пожарником, ни пожарным инспектором, но он первый, подняв воротник своего пиджака, бросился в самую пасть пламени. В тот день я вдохнул эфира и даже глазом не моргнул, когда мне вырезали этот самый аппендикс и стали чистить живот. Брат моего отца Болесловас Шатас не был пожарником, однако он спас от смерти одного из пяти поросят Каминскасов. У него покрылся копотью пиджак и обгорели брови, и он, как бы оправдываясь и стыдясь своей выходки перед жителями местечка, облепившими заборы, смущенно произнес:
— Если вор заберется, хоть стены оставит, а вот огонь ничего не пожалеет.
И правда, когда я вернулся домой уже без слепой кишки, от хлева Каминскасов остались лишь одни воспоминания и голый фундамент. Вечером того же дня, когда еще дымилось пожарище, брат моего отца Болесловас несмело постучался в дверь дома Каминскасов. Он хотел только спросить, не нашлись ли его очки, которые он потерял во время пожара, потому что без очков он словно без рук. Но так и не спросил, ибо вся семья Каминскасов — сам Каминскас, его жена Каминскене, самая красивая и тихая женщина в местечке, их дети — дочь Люка и сын по прозвищу Коротыш, — сидели за столом и в поте лица уплетали спасенного Болесловасом поросенка. Каминскас не позвал Болесловаса к столу, он только налил стопку водки и велел Люке:
— Подай, Люцина, этому человеку!
И Болесловас выпил водку на пороге.
— Подай, Люцина, этому человеку кость на закуску, — сказал тогда Каминскас.
Люка прыснула со смеху и снова направилась к двери.
— Детка, неужто уж я такой смешной без очков? — спросил Болесловас.
— Не знаю, — протянула Люка.
Брат моего отца не взял у нее кость, и только погладил Люку по голове, и посмотрел своими печальными, безбровыми глазами на Каминскаса:
— А я-то думал, что вы человек.
— Я тоже думал, — усмехнулся вспотевший Каминскас. — Я ведь никого не просил прыгать в огонь.
И захлопнул дверь перед носом Болесловаса.
Когда я вернулся из больницы, пепел пожарища давно уже остыл и развеялся ветром, и мне было очень жаль, что я не смог увидеть горящего хлева, в котором когда-то околела корова, проданная моим дедом Каминскасам.
И был тогда самый разгар лета, такого лета, какое не повторяется в жизни, и, сколько бы раз потом ни наступало оно, каждое будет казаться ненастоящим по сравнению с тем, единственным. А почему это так — кто его знает. Как сегодня помню яркий солнечный день, жирного и удивленного кота, скользящего по раскаленной жестяной крыше, стакан на подоконнике с черной щетиной бороды в мыльной воде, похожей на вчерашний забеленный молоком кофе. Я лежал в гамаке между двумя кленами, укутанный в зимнее пальто и шерстяной шарф, и чувствовал себя так, будто совершил какой-то подвиг, так как все повторяли, что меня едва вырвали из цепких когтей смерти. Брат моего отца Болесловас вырядился по этому поводу в белую в полоску рубашку без воротника. В тот день казалось, что весь мир улыбается мне и торжествует, а брат моего отца Болесловас нацепил мне на зимнее пальто три свои медали и орден. Он покачивал гамак и наигрывал на губной гармошке, а кот тем временем все полз по раскаленной крыше, мяукая, потом, вдруг чего-то испугавшись, глянул на нас, и я расхохотался во все горло. Мой отец с матерью вышли в сени поглядеть, как я смеюсь. Они решили, что только Болесловас сумел меня наконец рассмешить, и одобрительно закивали ему головой.
— Болесловас, — сказал я, — если я когда-нибудь забуду этот день, ты напомни мне о нем.
— И вправду хороший денек, — сказал тогда Болесловас, глядя на сверкающую на солнце жестяную крышу, достал из кармана какой-то завернутый в носовой платок предмет и подал мне.
— Я не хочу есть, — сказал я.
Болесловас дунул в свою губную гармошку и печально улыбнулся:
— Когда ты лежал в больнице, я сказал: «Отступись, костлявая, от сына моего брата Андрюса Шатаса — ведь он еще не попробовал орехового хлеба. Брысь, костлявая!»
— Брысь! — повторил я, махнув рукой, и кот соскользнул с жестяной крыши.
Я откусил кусочек хрустящего на зубах, немного клейкого и какого-то странного хлеба, и мой рот наполнился запахом орехов. Болесловас заиграл на губной гармошке, продолжая одной рукой качать гамак.
— Брысь, брысь, — нараспев повторял я, качаясь высоко над землей.
Медали позвякивали на моем зимнем пальто, и легкий, освежающий запах орехов из моего рта заполнил весь небосвод над деревьями, над гудящими телефонными проводами, над кооперативным двором, испещренным колеями, над парикмахерской Финкельштейна и керосиновой лавкой, и холодно-синие глаза людей от этого запаха потеплели, стали светло-карими, с двумя золотыми искорками.