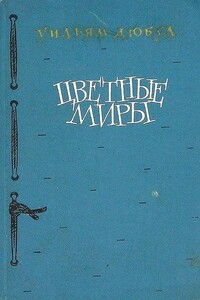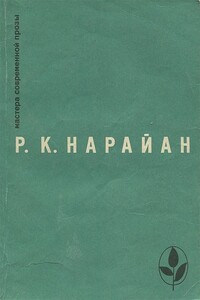Боб Робертсон утром поссорился с женой и теперь возвращался домой в растрепанных чувствах, не зная, что его ждет, с неохотой, ступенька за ступенькой, взбираясь по лестнице, покрытой фибровой дорожкой – лифта в доме не было, – и на каждой площадке останавливаясь, чтобы, так сказать, морально перевести дух.
Вот и его дверь на шестом этаже: сквозь матовое стекло пробиваются красные блики от огня камина, осветившего полоску передней.
Ключ лязгнул в замке, дверь открылась. В передней пахло жасмином, ее духами; Робертсон осторожно окликнул: «Бетти!» Но тут же ощутил ее отсутствие. Конечно же ушла, отправилась в кино. «К черту!» – решительно произнес Робертсон. А он-то собирался мириться. Вот к чему ведут благие намерения. В темноте он повесил свою шляпу.
Робертсон был демобилизованным офицером; это имело теперь все меньше и меньше значения – война отодвигалась в прошлое. Все же благодаря этому факту, а также некоторой престижности оконченной им закрытой частной школы он служил теперь коммивояжером в фирме, торгующей хорошими гравюрами и учебными эстампами. Бетти, его жена, покупала на распродажах броские блестящие чулки и жаловалась друзьям, что они с Бобом не могут позволить себе завести детей. От такой жизни у нее просто опускались руки, все чаще и чаще еда приносилась в дом готовая из кулинарии, в бумажных пакетах.
Тени прыгали и отскакивали от стен; часы ценой в пять Шиллингов давно уже отбили половину. Далеко внизу судорожными толчками, словно его выкачивали из Лондона, двигался к Грейт Уэст Роу транспорт. Дверь гостиной была доверчиво распахнута; на фоне слабеющего огня два кресла, повернутые к очагу, почему-то не создавали ощущения домашнего уюта. Этот открытый очаг с его тусклым из-за скверного топлива пламенем, но все же такой традиционный, как в родительские времена, поддерживал внутри какой-то огонь. Весь в горестных мыслях о прошлом, Робертсон повернул выключатель. Свет не зажегся. Пошарил в кармане – шиллинга не оказалось.
– Господи, это ты, что ли, Бобкин? – спросила Констанс, повернувшись к нему из кресла.
– О господи! – сказал Робертсон, вздрогнув. – Констанс? Ну разве так можно?
– Я уснула.
– У тебя нет шиллинга?
– Был, да потратила. Бетти дала мне свой ключ, она ушла с Дианой. А я жду здесь, хочу занять на автобус.
– Хороша, нечего сказать! – ответил Робертсон и, разглядев в темноте поднятое к нему лицо, поцеловал Констанс – такое у них было обыкновение.
– Спокойно! – Констанс поправила на лбу локон. Ей было лет семнадцать.
– Все еще не нашла места?
– А ты как полагаешь? – спросила она язвительно.
– Лучше выходи замуж.
– Это верно, – согласилась Констанс. – Хотя, с другой стороны, как я всегда говорю…
Что именно, осталось, однако, несказанным. Робертсон опустился в другое кресло, вытянул ноги и вздохнул.
– Знаешь, – сообщил он доверительно, – а я сегодня не очень-то спешил домой. Смешно, правда?
Констанс понимала его отлично. Скрестив ноги, она беззаботно болтала ступней перед самым огнем.
– Все вы, мужчины, одинаковы, просто-напросто мальчишки. Сами не знаете, что вам нужно, пока не взбредет в голову, что этого-то у вас нет.
– Мы с Бетти поцапались. – (Она слушала спокойно, рассеянно)… – Знаешь, Констанс, может, я потом больше этого не скажу, но она просто невыносима. Честное слово, иногда бывает просто невмоготу. Я понимаю, конечно, ей приходится нелегко. Но она такая беспомощная…
И это была чистая правда: целыми днями Бетти бродила по квартире, щелкая каблуками изношенных шелковых туфель с болтающимися ремешками. А то, скорчившись у каминной решетки, стенала над серыми кучками золы: какая грязь! Он-то знал, в чем тут дело: Бетти требовался газовый камин. С утра до вечера она жаловалась, что у нее уже нет никаких сил.
– Погляди-ка на мои пальцы, – вдруг сказала Констанс. – Я только что сделала маникюр.
– Покажи.
Она протянула ладони к свету очага, ногти блеснули лаком, оба нагнулись над ними.
– Смешной ты малыш, Констанс!
– Отстань! – Она послюнявила палец и снова разгладила на лбу три локона. – Знаешь, что я думаю: маникюр, он и вправду подтягивает человека. Есть такое место, туда мужчины ходят маникюриться, стошнить может, а?
– А славно вот так посидеть вдвоем в темноте. Только ты и я, Констанс… Ты не знаешь, как мне не хватает…
– Послушай, Бобкин, мне есть хочется, – прервала его Констанс.
– И мне тоже чертовски хочется. – Робертсон нагнулся к ней через очаг, хрустнул суставами пальцев, зажатых между коленями. – Представь себе, – произнес он с жаром, – вот уже год как я не пробовал жареной баранины! Бетти не желает готовить. Едим всякую пакость из бумажных пакетов.
– Ну, она хотя бы разогревает то, что приносит из кулинарии. А я бы просто открывала банки, вот лосось, например. У вас не найдется случайно баночки лосося?
Робертсон отправился в кухню, и Констанс за ним. Он освещал путь спичками; тихо смеясь, они ощупью добрались до места. Он кидал на пол отгоревшие спички, она старательно их затаптывала. Были обнаружены: кусок пирога со свининой – почти без начинки, – три надтреснутых персика в сиропе на блюде от Уолворта, несколько печений, одно чуть обгрызенное. Они расхохотались. Но запах еды сильно чувствовался в душной кухоньке, от плиты тянуло перегоревшим газом. Кончиками пальцев Констанс деликатно выудила персик и стала есть, наклонившись вперед, чтобы сироп не капнул на ее тесно облегающее черное платье. Заглядевшись, Робертсон не заметил, как огонек спички добрался до пальцев. Громко чертыхнулся, они оказались в темноте. Держась друг за друга, двинулись обратно, мерцающие отблески огня привели их снова в переднюю. Пирог Робертсон унес с собой.