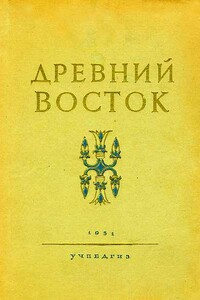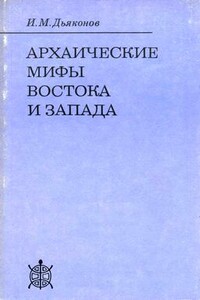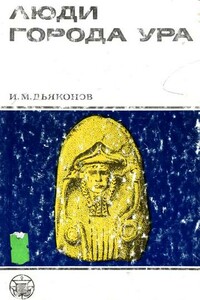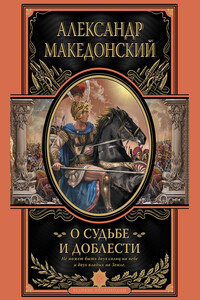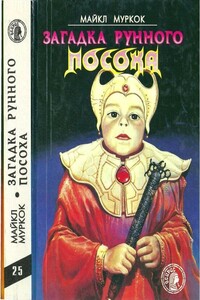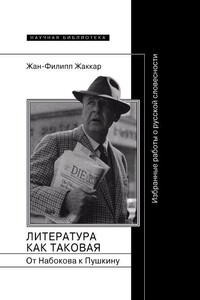К началу 20-х годов Пушкину было ясно, что всего сделанного до сих пор недостаточно для создания подлинно «европейской» национальной литературы (о литературе «мировой» тогда не думалось). Русской словесности были нужны жанры и произведения, в которых можно было ставить существенные жизненные вопросы и обращаться к мыслящему читателю. Такого читателя никоим образом нельзя было отождествить с теми, кого удовлетворяли любовная лирика, дружеские послания или даже эпос в духе Ариосто. Заметим, что нарисованная Пушкиным в 20-х годах Татьяна, человек думающий и чувствующий, читала много, но только прозу и только по-французски (главным образом романы, французские и переводные). Онегин, как известно, тоже относился к поэзии без интереса, и списки книг, которые он читал (в окончательном тексте и в черновиках их сохранилось несколько), почти не содержат стихов{1} — даже переложения произведений Байрона можно в данном случае отнести к поэзии лишь условно. Не содержат эти списки и никакой русской литературы{2}.
Неестественность такого положения была понятна каждому, и Пушкин, работая над романом, дважды счел себя вынужденным оправдывать круг чтения своих героев, один раз в связи с Татьяной, другой — вкладывая такое оправдание в уста Онегина: «Но где мы первые познанья И мысли первые нашли, Где применяем испытанья, Где узнаем судьбу земли — Не в переводах одичалых Не в сочиненьях запоздалых Где русской ум да русской дух Зады твердит и лжет за двух. Поэты наши переводят, А прозы <нет>», и т. д. (глава 3, строфа XXXII, беловик А; VI, 583—584). Ср. «Альбом Онегина», <7> (VI, 615—616).
С точки зрения Пушкина, русской подлинно художественной прозы вообще не было. Это было его твердое убеждение на протяжении многих лет{3}. Пути развития поэзии и прозы, предлагавшиеся преддекабрьской критикой и литературной практикой, были для Пушкина неприемлемы. Между тем в начале 20-х годов Пушкин серьезно размышлял о прозе и о необходимости романа как главного прозаического жанра{4}.
Можно спорить с мнением Пушкина, указав, что русская проза в 1810-х годах все же была. Однако остается фактом то, что Пушкин не принимал ее всерьез. Почти единственным русским прозаиком он в 1822—1823 гг. считал Карамзина (набросок 1822 г. «О прозе», письмо к Вяземскому от 6 февраля 1823 г., тирада рассказчицы в «Рославлеве» 1831 г.) — конечно, не автора «Бедной Лизы», а историка, выученика Ливия и Тацита. Однако карамзинская «История государства Российского» не давала еще образца прозы, которая бы обращалась с понятиями, свойственными современности. В собственно художественной прозе господствовали неестественный язык XVIII в. и устарелые жанры, а лучшей прозой была описательная или эпистолярная. Пушкин, видимо, прежде всего потому считал, что русской прозы нет, что не было русского литературного прозаического языка, достаточно богатого, чтобы свободно выражать общие понятия современной мысли и современной национальной жизни, — того, что Пушкин называл русским «метафизическим языком». Вследствие этого в начале 20-х годов в прозе надо было делать сразу огромный прыжок вперед, и молодой литератор еще не решался на то, чтобы в одиночку одновременно «образовывать» и русский язык общих понятий, и «большую» русскую прозу{5}.
Однако необходимо было создавать жанр, в котором можно ставить проблемы частной жизни и общества, давая их образную картину и непрямую нравственную оценку. Напрашивалась мысль о романе (это было тем более актуально, что между 1818 и 1820 гг. русских столиц достигли во французском переводе романы Вальтера Скотта, революционизировавшие европейскую прозу){6}; но раз на прозу Пушкин не решался, то самым близким ему жанром оказывалась современная романтическая поэма (французские переводы Байрона появились в России одновременно с переводами Вальтера Скотта; это были новинки, еще не дошедшие до Татьяны Лариной). Вышедший в 1821 г. «Кавказский пленник» показал читателю, что Пушкин обратился к современному герою.
Конечно, Пушкин этого периода находился в кругу байроновской (и руссоистской) проблематики: индивидуальность и толпа, цивилизация и естественный человек; именно потому здесь была применима и уместна байроновская техника{7}. Но если «пафос» Байрона — в утверждении ценности личности даже ценой своих, чужих и общих страданий, то эмоционально-нравственная задача поэм Пушкина, от «Кавказского пленника» до «Евгения Онегина», — в опровержении ценности личности, утверждающей себя такой дорогою ценой{8}. Давно уже замечено, что весь «байроновский» период Пушкина есть период борьбы о Байроном и преодоления его влияния. «Байроновский» герой — таинственный, готический, отмеченный печатью трагического рока, даже в своей преступности противостоящий антипоэтическому миру — у Пушкина либо вовсе отсутствует, либо в нем подчеркнуто преимущественно губительное начало. Герои Байрона (включая Чайльд Гарольда, несмотря на то что он странствует по современным Байрону Испании и Греции) задрапированы в средневековые одежды, а Дон Жуан, хотя он условно отнесен к XVIII в., производит такое впечатление, будто он вообще вне времени и пространства. Кавказский же пленник — светский петербуржец начала XIX в.