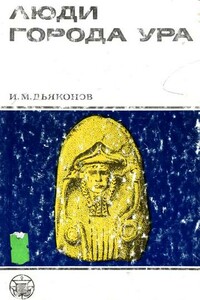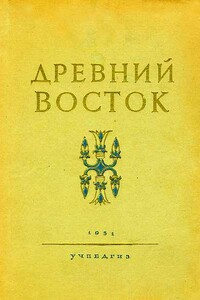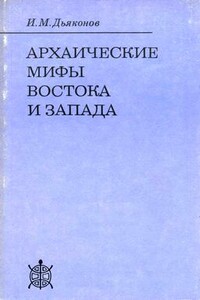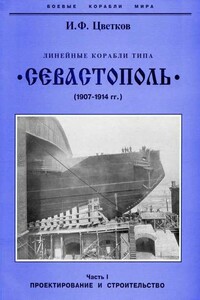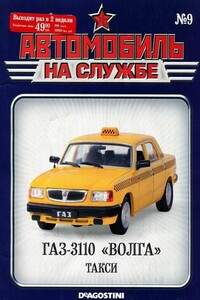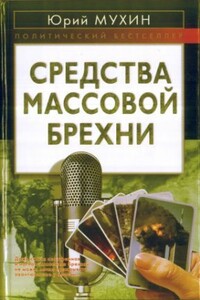Эта книга посвящена не социально-историческим или историко-культурным обобщениям; в ней нет систематического изложения тех или иных явлений и событий. Задача ее иная: постараться сделать так, чтобы читатель — будь то ассириолог, историк, археолог или просто человек, интересующийся прошлым рода людского, — увидел людей вавилонской древности настолько живыми, насколько это позволяют наличные сегодня источники.
Итак, это книга-путешествие: взяв на себя роль экскурсовода, автор покажет читателю древний город и его людей, зайдет с ним в их дома, прочитает, что сохранилось из их архивов, даст посмотреть на то, что осталось от их утвари. Об их обычаях, законах, социальных отношениях мы будем говорить лишь тогда, когда что-то в нашем путешествии наведет на них мысль, не пытаясь изложить эти сведения систематически — чему посвящены будут другие выпуски нашей серии.
По ряду причин написание этой книги оказалось более трудным, чем я предполагал; она не была бы благополучно закончена, если бы не помощь и участие моих товарищей Л. В. Бобровой, Н. В. Козыревой, Л. А. Мочаловой, Д. О. Эдцарда, П. Хьюлина, В. А. Якобсона и Н. Б. Янковской.
И. М. Дьяконов
Ленинград, 1983
Эта рукопись была сдана в печать в 1983 г. В 1986 г. в Женеве и Париже вышла книга Доминика Шарпэна «Жречество города Ура в век Хаммураби (XIX–XVIII вв. до н. э.)», построенная в значительной мере на том же материале, что и книга, ныне предложенная читателю (французским автором не учтен только участок АН, наши главы VI–VII). Д. Шарпэну, имевшему возможность сличать оригиналы в Британском и Багдадском музеях, удалось исправить некоторые предложенные нами чтения и прибавить отдельные детали. Его книга не ставила себе целью дать общую картину жизни вавилонского города — он рассматривал материал под совсем иным углом зрения: так, его больше интересовали жреческие звания и обязанности, жертвоприношения и т. д. Некоторые важнейшие обряды им, однако, даже почти не упомянуты. Значительно меньше автора занимали вопросы хозяйства и быта жрецов и других жителей города. Таким образом, наши книги дополняют одна другую.
Моему французскому коллеге было известно, что я работаю над тем же материалом, что и он (это отмечено в тексте его книги). В этих условиях взаимные консультации и взаимные проверки были бы чрезвычайно полезны. К сожалению, их не было.
С благодарностью я учел в окончательном тексте книги новые убедительные наблюдения Д. Шарпэна; к сожалению, его книга не лишена и серьезных досадных ошибок, особенно по части социально-экономических текстов. И в этом отношении наша книга, не дублируя Шарпэна, дает, я надеюсь, новые и более полные данные о жизни людей месопотамского города Ура XIX–XVIII вв. до н. э.
И. М. Дьяконов
Ленинград, 1988
Глава I ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ[1]
Речь в этой книге пойдет об одном очень древнем городе Нижней Месопотамии, хотя и не о его первых временах: к той поре, о которой здесь рассказывается, в Нижней Месопотамии прошло уже более тысячи лет существования городов и государств.
В речных долинах Египта и Месопотамии общество развивалось иначе, чем в других древних странах Азии, Африки и Европы. О причинах этого здесь нет ни возможности, ни нужды говорить; достаточно сказать, что к концу III тысячелетия до н. э., ко времени начала господства «Царства Шумера и Аккада» — так называемой III династии Ура (с 2111 г. до н. э.), в Двуречье Евфрата и Тигра непомерно вырос царский сектор хозяйства, включавший тогда также и хозяйства храмов; царский сектор поглотил едва ли не большую часть сельскохозяйственных территорий и все ремесло, сосредоточенное в сколько-нибудь больших мастерских, а вернее сказать — все вообще ремесло, кроме того, что обслуживало самые непосредственные семейные нужды, особенно в сельской местности. То же касается и обмена. Международный обмен был целиком в руках царских агентов, называвшихся на шумерском, древнем языке Двуречья dam-gàr, а на разговорном восточносемитском языке страны (аккадском) — tamkārum[2]. Вне царского сектора экономики в то время не было таких производителей товарной продукции, которые могли бы конкурировать с обширными царскими мастерскими и бескрайними царскими сельскохозяйственными имениями. Эти мастерские и имения обслуживались подневольными отрядами зависимых от царя людей (по-шумерски мужчины назывались guruš, а женщины — gemé). Они практически были неотличимы от рабов. Естественно, что продукция царских имений и мастерских реализовалась только через царских агентов. И хотя мы почти ничего не знаем об обмене внутри страны при III династии Ура, надо думать, что при существовавшем положении вещей и здесь царский сектор доминировал.
Правда, мы располагаем сейчас данными о том, что и при III династии Ура общинно-частный сектор все же не вовсе был вытеснен или поглощен царским хозяйством, как это рисуется в учебниках — и у нас, и на Западе. Так, во время срочных полевых работ царское хозяйство широко привлекало наемный труд, и ясно, что оно не могло нанимать своих же собственных работников, которые и так работали на него без отдыху и сроку. Попытку доказать, что оно нанимало младших братьев своих же работников, следует также признать неудачной, так как ни из чего не видно, что, эксплуатируя самым безудержным образом мужчин, женщин и детей, царское хозяйство ограничивалось бы при этом одними лишь старшими братьями в семье. Паек наемника раза в три превосходил паек