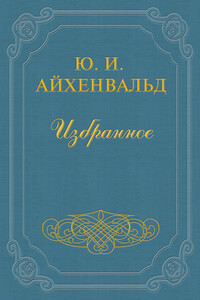Николай Константинович Михайловский
«Новь»
«Печатая этот небольшой рассказ и зная, что в публике ходят слухи о большом произведении, над которым я тружусь, я чувствую потребность обратиться к ее снисходительности. Задуманный мною роман все еще не кончен; надеюсь, что он появится в „Вестнике Европы“ в течение нынешнего года, а пока – пусть не погневаются на меня читатели за настоящее captatio benevolentiae [1] и пусть, в ожидании будущего, прочтут мой рассказ не как строгие судьи, а как старые знакомые – не смею сказать: приятели».
Г. Тургенев счел нужным сопроводить таким примечанием рассказ «Часы». Оно очень характерно, это примечание. В нем выразилось и сознание стародавнего любимца русского читающего люда, что он перестал быть любимцем, и грусть этого сознания, и желание вернуть старые приятельские отношения, и надежда на осуществление этого желания. Все очень естественные, законные чувства. Кто привык «вязать и решать», быть выразителем и отчасти даже «властителем дум» своих современников, кто привык видеть, как толпа с волнением ждет его слова, тому тяжело очутиться в положении г. Тургенева. Кругом сумрачно и холодно, холодные, чужие лица, несколько даже изумленные изящною повелительностью манер бывшего любимца. Они знают, конечно, прошедшее любимца, но не переживали его с ним вместе, знают только как совершившийся факт, который был и быльем порос, а потому самоуверенность и плавная величественность, снисходительная небрежность движения этого человека для них непонятны, несколько даже смешны. Очень тоже все это естественно, но от того не легче развенчанному любимцу, особенно, если он знает, как знает г. Тургенев, что старость-Далила не остригла его волос, что он – тот же Самсон, способный по-старому волновать и трогать читателя. Ему непременно должно казаться, что все дело в каком-то пустячном, ничтожном недоразумении, устранить которое чрезвычайно легко тоже каким-то пустяком, вроде грациозного жеста или приятной улыбки. Но черт их знает, этих людей с такими холодными, чужими лицами, черт их знает, в чем они полагают грацию и какую улыбку назовут они приятною! Тут так легко попасть впросак. Да и положим, наконец, что искомое найдено, нельзя же его пустить в ход с поспешностью человека, напрашивающегося, нуждающегося. Нет, надо, конечно, показать, что возобновить или вновь установить приятельские отношения очень желательно, но, с другой стороны, надо все-таки сохранить отчасти вид человека, которому, собственно говоря, совершенно наплевать. И вот, когда этих надежд, опасений, сомнений, алканий достаточно накопится на душе у бывшего любимца, он пишет вышеприведенное примечание к рассказу «Часы».
А затем он пишет «Новь».
Охлаждение русских читателей к г. Тургеневу ни для кого не составляет тайны, и меньше всех – для самого г. Тургенева. Охладела не какая-нибудь литературная партия, не какой-нибудь определенный разряд людей – охлаждение всеобщее. Надо правду сказать, что тут действительно замешалось одно недоразумение, пожалуй, даже пустячное, которое нельзя, однако, устранить ни грациозным жестом, ни приятной улыбкой, потому что лежит оно, может быть, больше в самом г. Тургеневе, чем в читателях. Г. Тургенев – не то чтобы в самом деле Самсон, но все-таки сила, навсегда вписавшая свое имя в историю русской литературы. Но какие странные, невозможные требования предъявляются этой силе публикой! Русская беллетристика не клином сошлась на г. Тургеневе. Есть у нас и другие крупные таланты, не ниже тургеневского, с которыми, однако, читатели не обходятся так деспотически. Если новое произведение, например Толстого, Достоевского, вызывает иногда сожаление, что автор взял не ту тему, которую по тем или другим соображениям должен был взять, если даже кое-кто берется при этом указывать им сюжеты, достойные их пера, то все эти требования, сожаления, указания предъявляются применительно к свойствам таланта писателя или к кругу знакомых ему явлений.
В общем, мы своих наличных любимых писателей знаем удовлетворительно. Знаем, на какие явления они по свойствам своих талантов лучше всего отзываются, знаем, что они любят и чего не любят, знаем, какие явления им наиболее знакомы, и потому редко предъявляем им какие-нибудь неразумные требования. Совсем не то с г. Тургеневым. От него требуется, чтобы он, как выражается полупьяный купец в одном рассказе Горбунова, «ловил момент». Печатает, например, г. Тургенев «Вешние воды» – историю двух любвей одного слабого человека: любовные дела и слабые люди изучены им до тонкости, изображает он их мастерски, а публика говорит: не того мы ждали от Тургенева! Печатает много других вещей различного достоинства, а публика все свое: должен ловить момент! Замечательно, что требования эти не останавливаются даже всеобщим охлаждением; а когда г. Тургенев попытается удовлетворить им и даст что-нибудь вроде «Дыма» или «Нови», публика остается недовольна, вернее, неудовлетворена, но разве только «Новь» окончательно убедит читателей в несправедливости, неисполнимости и даже оскорбительности требования: лови момент. Оскорбительно оно не потому, конечно, что, как думали когда-то и как думают теперь разве какие-нибудь пятиалтынные критики, поэзия не обязана знать «злобы дня», что поэты «рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Собственно, об этом даже толковать не стоит, потому что где же они, эти поэты, пробавляющиеся исключительно вдохновением и сладкими звуками? Их нет. Горсточка какая-нибудь старичков осталась, как справедливо заметил г. Тургенев в разговоре с Писаревым {1} , а со времени этого разговора воды утекло еще больше. Ну, и Бог с ними. Но от г. Тургенева требуется не простая отзывчивость на то, что в нас и кругом нас делается, что нас волнует и тревожит. Это-то мы рассчитываем получить и от Толстого, и от Достоевского, и от Островского, и от Некрасова, и от Щедрина. От г. Тургенева требуется нечто иное, что именно – трудно сказать, да и едва ли сами требующие ясно себе представляют. Тургенев, видите ли, должен уловить каждое нарождающееся на Руси общественное влияние (более или менее крупное, разумеется) в его типичнейших представителях, проникнуться им, ввести его в свою плоть и кровь и затем выпустить в виде ярких, характерных образов, да еще с некоторой перспективой, с некоторым поучением на придачу. Он должен сказать какое-то «слово», которое вдруг все разъяснит, всему укажет свое место. Ближе говоря, предлагаемая г. Тургеневу специальность состоит в изображении так называемых «новых людей», не тех или других, а вообще новых, то есть и тех, которые были новыми лет пятнадцать тому назад, и нынешних новых. Другим писателям предоставляется вся совокупность политических, экономических, нравственных условий, породивших тех или других «новых», а с г. Тургенева требуются только они. Странная специальность вообще, но еще страннее навязывать ее именно г. Тургеневу. Г. Тургенев прекрасно нарисовал нам несколько типов сороковых годов. Допустим, чтобы не поднимать старого и теперь уж, пожалуй, праздного спора, что в «Отцах и детях» тоже верно схвачены типические черты «новых людей» того времени. Допустим, наконец, что и «Новь» в этом отношении безукоризненна. Ну а если г. Тургеневу Бог даст веку еще лет на двадцать и если к тому времени народятся опять какие-нибудь новые люди, – неужто же можно будет требовать, чтобы он и их взвесил и смерил? Конечно, нет, и вовсе не потому, чтобы к тому времени талант г. Тургенева должен был непременно ослабнуть, а просто потому, что эти будущие люди могут потребовать таких красок, каких нет и не было никогда на палитре г. Тургенева. Представим себе, что эти будущие люди будут какие-нибудь чрезвычайно спокойные, «уравновешенные» натуры, твердые, не болеющие никакой внутренней тревогой. Мы знаем очень хорошо, что, например, г. Достоевский при всем своем огромном таланте таких людей не в состоянии изобразить. Знаем мы это потому, что г. Достоевского знаем, свойства его таланта знаем. А г. Тургенева мы не только не знаем, хотя об нем писано больше, чем об ком-нибудь, а и знать не хотим. Иначе мы не создали бы для него странной специальности «новых людей», а всякий раз присматривались бы, таковы ли эти новые люди, чтобы могли подойти под особенности таланта г. Тургенева. Но этого мало: тут не в одном таланте дело. Для поэтического воспроизведения какого бы то ни было явления нужно, во-первых, чтобы художнику оно было знакомо и чтобы, во-вторых, оно имело с ним какие-нибудь нравственные связи, чтобы оно ему было дорого или ненавистно, возбуждало в нем сочувствие, отвращение, презрение, уважение, негодование – что-нибудь. Относительно г. Тургенева мы решительно не интересуемся соблюдением этих двух необходимейших условий. Знает он или не знает «новых людей», питает ли он к ним какие-нибудь определенные чувства, или они для него просто совсем чужие люди – мы с этим не справляемся. Мы твердим свое оскорбительное: лови момент! Оскорбительно оно не только потому, что в нем отражается вообще неуважение (бессознательное, конечно) к личности г. Тургенева, но и потому, в частности, что оно предполагает в г. Тургеневе такое крайнее легкомыслие и такое недостойное его таланта популярничанье, которое заставит его сунуться во всякую воду, не спросясь броду. Факты налицо. Всем известно, что г. Тургенев давно уже живет за границей, наезжая в Россию в два года раз на месяц, на полтора. Нельзя, конечно, сказать, чтобы он порвал все нравственные связи со своим отечеством, старые связи, вероятно, более или менее сохранились, но уж можно наверное сказать, что новых связей он никаких не устроил. Все наиболее интимное в русской жизни за последнее время ему и незнакомо, и нравственно чуждо. Нынче летом он сам говорил некоему г. П.: «В настоящее время многие близкие мне люди даже вовсе не знают по-русски». Тем не менее высказывались и в печати надежды встретить в «Нови» какое-то откровение. Существует, правда, странный предрассудок, будто художнику, поэту не нужно короткое знакомство с предметом его картин, так как, дескать, в его распоряжении имеется таинственная сила «вдохновения», «поэтического чутья», восполняющая недостаток знания. Но это – нелепость, противоречащая и здравому смыслу, и науке. Из ничего – ничего и не будет. Мы знаем, что величайшие художники были вместе с тем и тружениками, изучавшими свои сюжеты с не меньшим тщанием, чем какой-нибудь великий ученый свой предмет. Поэту приходится ставить своих героев в самые разнообразные положения, а для этого он должен знать их вдоль и поперек, и без такого знания его не выручит никакое вдохновение. В какое же положение ставит публика г. Тургенева, требуя от него художественного изображения дел и людей, ему незнакомых, чужих?