«Новь» - [4]
– Ах, как я хорошо сделал, что вам все сказал! – едва могли шепнуть его губы.
– Да, хорошо… хорошо, – повторила она тоже шепотом. Она невольно подражала ему, да и голос ее угас. – И, значит, вы знаете, – продолжала она, – что я в вашем распоряжении, что я хочу быть тоже полезной вашему делу, что я готова сделать все, что будет нужно, пойти, куда прикажут, что я всегда всей душой желала того же, что и вы…
Она тоже умолкла. Еще одно слово, и у нее брызнули бы слезы умиления. Все ее крепкое существо стало внезапно мягко, как воск. Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной – вот чем она томилась».С этой минуты Марианна становится ревностным адептом учений кружка Нежданова, доходя при этом даже до совершенной глупости, потому что впоследствии постоянно пристает к Соломину: когда же вы нас пошлете? да скоро ли вы нам прикажете идти? А тому и посылать некуда, и приказывать нечего! Как бы то ни было, но вот единственное место во всем романе, где г. Тургенев пытается выяснить интересный момент пробуждения известных стремлений. Немного. Но и это немногое сводится в конце концов к случайным обстоятельствам личной жизни Марианны, к ее несчастной семейной обстановке.
Таким образом, общественное явление сведено у г. Тургенева к разнообразным, мелким, личным причинам. Он, разумеется, сам понимает, что это неверно, что и «червонных валетов», например, можно тоже представить в виде кучки «неудачников», ни на волос не объяснив дела. Он слишком умен, чтобы не понимать этого. Наконец, заключительные слова Паклина (которому автор вкладывает много своих собственных, тургеневских шпилек и острот, а отчасти и серьезных мыслей, предоставляя, впрочем, свое серьезное, задушевное более Нежданову), заключительные слова Паклина о Соломине ясно говорят, что какая-то общая причина, общий фон всех этих отдельных личных историй существует. Какая причина? какой фон? – этого г. Тургенев не знает и не хочет знать. С него требуют «новых людей». Он исполняет требование, специализирует свою задачу до уровня неразумного закона и, следуя голосу заказчиков, предоставляет всю совокупность условий, породивших «новых людей», другим, а себе оставляет только их висящие на воздухе личности и их «поступки». Такова основная фальшь романа. Но, раз приняв непосильный заказ, г. Тургенев естественно должен был пойти и далее по этой скользкой дороге фальши. Человек, который берется, по каким бы то ни было побуждениям, говорить о предмете, для него невидимом, как о видимом, должен все время разговора лавировать, многое обходить, многое совсем постороннее приплетать и т. п. Это случилось и с г. Тургеневым. Замечательно, что все верующие «новые люди» у него очень честны, но чрезвычайно тупы, тупы не случайно, а по велению автора; это уже из того видно, что неверующим (Нежданову, Соломину, Паклину) он в уме не отказывает и даже ценит их в этом отношении свыше меры. Об Остродумове Паклин (очень часто alter ego [4] самого г. Тургенева) выражается так: «Не все же полагаться на одних Остродумовых! Честные они, хорошие люди, зато глупы! глупы!!! Ты посмотри на нашего приятеля. Самые подошвы его сапогов, и те не такие, какие бывают у умных людей». Машурина, Кисляков до такой степени глупы, что составляют даже мишень для остроумия автора. О Маркелове прямо говорится как о человеке с «ограниченным умом», как о «существе тупом». О Марианне ничего подобного не говорится, но ведет она себя положительно глупо. Все это не случайно, а непременно так и должно было выйти у г. Тургенева. Если вам закажут роман из китайской жизни и вы будете иметь под руками только кое-какие скудные печатные материалы, вас невольно потянет к изображению людей тупых, ограниченных, потому что их несведущему человеку изобразить легче: натуры у них несложные, кругозор узенький, поступки аляповатые. Повернуть дурака можно куда угодно, без всякой ответственности, в душу залезть к нему немудрено. Эта сплошная глупость верующих еще особенно оттеняется невидимым присутствием их вожака, об котором только и известно, что зовут его Василием Николаевичем и что все ему повинуются. Г. Тургенев, очевидно, сам чувствовал, что ему не справиться с этим типом, и потому ни разу не показал его читателю. Но тогда зачем же было огород городить?
Глупые люди были до такой степени нужны г. Тургеневу, что он оказался вынужденным привлечь к участию в их глупостях даже своих умниц. Помните, например, как Маркелов, Нежданов, Паклин и Соломин посещают Голушкина и супругов Субочевых, эту, мимоходом сказать, очень плохую и неизвестно для чего вставленную пародию старосветских помещиков Гоголя. Оба эти посещения составляют сплошную глупость, не без грязного оттенка вдобавок. Даже непонятно, как такие серьезные и умные люди, какими автор желает представить Соломина и отчасти Нежданова, могут, Бог знает зачем, проводить время с блаженными Фомушкой и Фимушкой, пьянствовать с глупцом и негодяем Голушкиным, болтать при этом совсем неподходящие вещи в присутствии совершенно незнакомого голушкинского приказчика, который потом и оказывается предателем. Неужто даже у умниц не хватило смысла понять, что рекомендация Голушкина очень мало надежна? Но такова уж сила глупости всех изображаемых г. Тургеневым поступков, что, как только начнут люди «поступать», так и распространяют кругом себя заразу глупости. И все это только потому, что глупых легко рисовать…
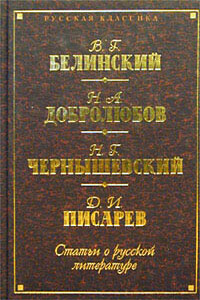
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
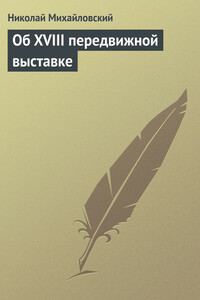
«Первое, что меня поразило на нынешней передвижной выставке, это – скудость, и количественная, и качественная, бытовой живописи, жанра…».
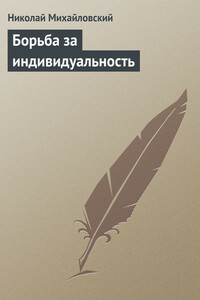
«Когда какая-нибудь крепость, занятая карлистским отрядом, осаждается войсками признанного испанского правительства и затем, после долгих переговоров, вылазок и стычек, благополучно увеличивает собой владения короля Альфонса, то, несмотря на все ничтожество этого ряда событий даже для самой Испании, русские газеты следят за ним изо дня в день…».
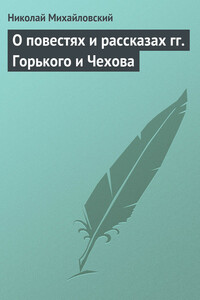
«Но гг. Горького и Чехова обойти или кем-нибудь заменить нельзя, и не только ввиду их значительности, а и ввиду тех общих выводов, которые я желал бы представить вниманию читателей…».

«Свое внимание Достоевский устремляет на широкие общие основания общественной жизни, так или иначе, но постоянно связывая их с „вековечными“ вопросами о Боге, бессмертии и проч. И тем не менее трудно с определенностью сказать, что именно он обо всем этом думал…».

«Когда стало известным, что г. Достоевский делается ответственным редактором „Гражданина“, „органа русских людей, состоящих вне всякой партии“, многие были этим обстоятельством заинтересованы. Интересовался и я…».

Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
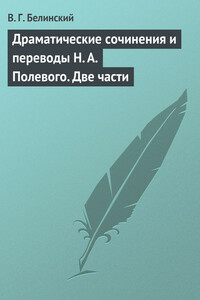
«…Это решительно лучшее из всех «драматических представлений» г-на Полевого, ибо в нем отразилось человеческое чувство, навеянное думою о жизни; а между тем г. Полевой написал его без всяких претензий, как безделку, которая не стоила ему труда и которую прочтут – хорошо, не прочтут – так и быть!…».
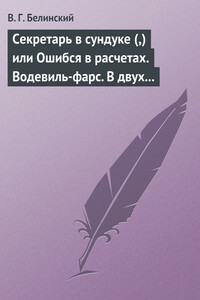
«…Не знаем, право, каковы английский и немецкие водвили, но знаем, что русские решительно ни на что не похожи. Это какие-то космополиты, без отечества и языка, какие-то тени без образа, клетушки и сарайчики (замками грешно их назвать), построенные из ничего на воздухе. В них редко встретите какое-нибудь подобие здравого смысла, об остроте и игре ума и слов лучше и не говорить. Место действия всегда в России, действующие лица помечены русскими именами; но ни русской жизни, ни русского общества, ни русских людей вы тут не узнаете и не увидите…».
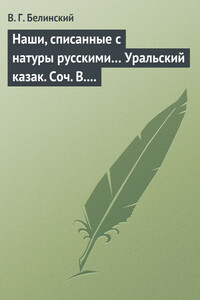
«…К числу особенных достоинств статей, помещаемых в этом издании, должно отнести их совершенную соответственность и верность идее и цели: так, например, «Уральский казак» – это не повесть и не рассуждение о том, о сем, а очерк, и притом мастерски написанный, который в журнале не заменил бы собою повести, а в «Наших» читается, как повесть, имеющая все достоинство фактической достоверности…».
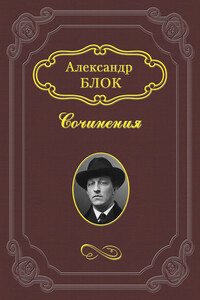
«Во все времена человеческой жизни, с тех пор как люди себя помнят, были войны. Войны, с тех пор как существуют государства, начинались правительствами, а кончались – борьбой сословий; бедные принимались бороться с богатыми. Богатые противились и не хотели уступать. Тогда начинались народные движения; более долгие и более мирные движения называются реформациями, а более короткие и более кровавые – революциями…».