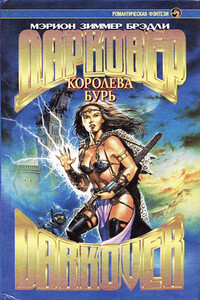«Новь» - [3]
Маркелов (фигура едва ли не самая яркая и законченная) «воспитывался в артиллерийском училище, откуда вышел офицером, но уже в чине поручика он подал в отставку по неприятности с командиром-немцем. С тех пор он возненавидел немцев, особенно русских немцев. Отставка расстроила его с отцом, с которым он так и не виделся до самой его смерти, а унаследовав от него деревню, поселился в ней. В Петербурге он часто сходился с разными людьми, перед которыми благоговел, они окончательно определили его образ мыслей. Читал Маркелов немного и больше все книги, идущие к делу: Герцена в особенности. Он сохранил военную выправку, жил спартанцем и монахом. Несколько лет тому назад он страстно влюбился в одну девушку, но та изменила ему самым бесцеремонным манером и вышла за адъютанта – тоже из немцев. Маркелов возненавидел также и адъютантов. Он пробовал писать специальные статьи о недостатках нашей артиллерии, но у него не было никакого таланта изложения: ни одной статьи он не мог даже довести до конца… Ему вообще не везло – никогда и ни в чем: в корпусе он носил название неудачника». Ясно, что Маркелова толкнули на дорогу революции личные неудачи. Не поссорься он с командиром-немцем, он продолжал бы себе служить как следует; не отбей у него невесту адъютант – он был бы, может быть, прекрасным семьянином и заботился бы о создании себе уютного гнездышка; имей он литературный талант, он писал бы специальные статьи для военных изданий и, может быть, оказал бы существенные услуги отечественной артиллерии. Но так как он был «неудачник», то из него вышел революционер. На отвратительном пиршестве у отвратительного Голушкина Маркелов «забарабанил глухим, злобным голосом, настойчиво, однообразно („ни дать, ни взять – капусту рубит“, – заметил Паклин). О чем собственно он говорит, не совсем было понятно: слово „артиллерия“ послышалось из его уст в момент затишья… он, вероятно, вспомнил те недостатки, которые открыл в ее устройстве. Досталось также немцам и адъютантам».
Нежданов, которым автор особенно занят, является в романе даже больше, чем готовым. Он чуть не на первой странице заявляет свой скептицизм, свое желание отойти от дела, в которое перестал верить. Но ни процесса этого разочарования, ни предшествующего процесса «очарования» мы не знаем. Все дело, по-видимому, в том, что Нежданов – незаконный сын вельможи и очень этим тяготится, так тяготится, как это редко бывает на Руси, особенно в том кругу, где вращается Нежданов. Таким образом, единственным источником революционного пыла Нежданова оказывается его двусмысленное общественное положение. Опять чисто личная жизненная неудача.
Марианна. К этой девушке г. Тургенев относится несколько милостивее, или, вернее, по поводу нее он отнесся милостивее к читателям. Роман, в котором изображаются только «поступки», ряд действий, без внутреннего, психического развития персонажей, был бы очень плох даже в чисто художественном смысле. В прежних романах г. Тургенева, как и в большинстве романов, это внутреннее, психическое развитие сосредоточивалось на процессах и перипетиях любви. Постепенное разгорание или потухание страсти, разные столкновения на этой почве приковывали к себе внимание читателя и заставляли его с интересом следить даже за пустячными внешними действиями, «поступками». «Новь» – роман политический, а потому в нем психическое движение должно хоть отчасти основываться на политических мотивах. Но, как сказано, все действующие лица «Нови» оказываются в этом отношении точно замороженными. Насчет движения любовного мы получаем материалу очень достаточно: как в госпоже Сипягиной поднимается и быстро падает неопределенное влечение к Нежданову, как зарождается и растет в Нежданове любовь к Марианне, какие разнообразные оттенки принимает последовательно склонность Марианны сначала к Нежданову, а потом к Соломину. Но как зарождаются, растут, падают чувства и идеи политические, это остается в тумане. Только Марианна составляет маленькое исключение, очень маленькое, хотя автор приложил даже особенное старание к выяснению ее образа с этой стороны. Отец Марианны был сослан за позаимствование из казенного сундука в Сибирь. Дядя Сипягин приютил Марианну у себя, но она всегда тяготилась этим покровительством, с болью помнила, что она – «дочь обесчещенного отца», что она живет из милости и что госпожа Сипягина есть ее «покровительница», хотя и «невольная». И вот эта гордая, оскорбленная, озлобленная девушка, представляющая нечто вроде кучи горючего материала, которая ждет только искры со стороны, чтобы вспыхнуть, сталкивается с Неждановым, тоже гордым, оскорбленным и озлобленным. В одну из своих светлых минут Нежданов, подмываемый любовью к Марианне и вообще «взвинченный», как выражается об нем г. Тургенев, красноречиво, с жаром раскрывает свои революционные тайны и планы.
«Она его слушала внимательно, жадно, на первых порах она изумилась… Но это чувство тотчас исчезло. Благодарность, гордость, преданность, решимость – вот чем переполнилась ее душа. Ее лицо, ее глаза засияли, она положила другую свою руку на руку Нежданова, ее губы раскрылись восторженно… Она вдруг страшно похорошела.
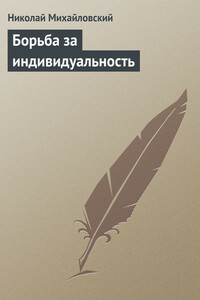
«Когда какая-нибудь крепость, занятая карлистским отрядом, осаждается войсками признанного испанского правительства и затем, после долгих переговоров, вылазок и стычек, благополучно увеличивает собой владения короля Альфонса, то, несмотря на все ничтожество этого ряда событий даже для самой Испании, русские газеты следят за ним изо дня в день…».
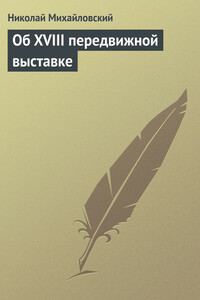
«Первое, что меня поразило на нынешней передвижной выставке, это – скудость, и количественная, и качественная, бытовой живописи, жанра…».
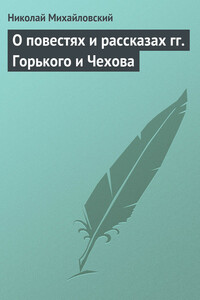
«Но гг. Горького и Чехова обойти или кем-нибудь заменить нельзя, и не только ввиду их значительности, а и ввиду тех общих выводов, которые я желал бы представить вниманию читателей…».
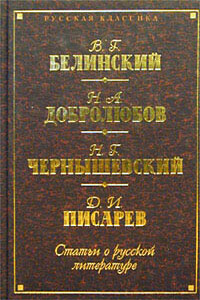
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Когда стало известным, что г. Достоевский делается ответственным редактором „Гражданина“, „органа русских людей, состоящих вне всякой партии“, многие были этим обстоятельством заинтересованы. Интересовался и я…».

«Свое внимание Достоевский устремляет на широкие общие основания общественной жизни, так или иначе, но постоянно связывая их с „вековечными“ вопросами о Боге, бессмертии и проч. И тем не менее трудно с определенностью сказать, что именно он обо всем этом думал…».
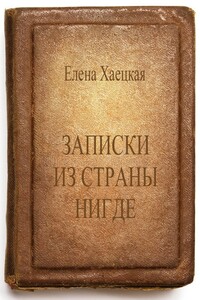
Елена Хаецкая (автор) публиковала эти записки с июня 2016 по (март) 2019 на сайте журнала "ПитерBOOK". О фэнтэзи, истории, жизни...
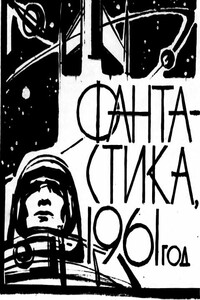
Обзор советской научно-фантастической литературы за 1961 год. Опубликовано: журнал «Техника — молодежи». — 1961. — № 12. — С. 14–16.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
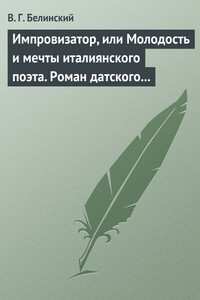
Рецензия – первый и единственный отклик Белинского на творчество Г.-Х. Андерсена. Роман «Импровизатор» (1835) был первым произведением Андерсена, переведенным на русский язык. Перевод был осуществлен по инициативе Я. К. Грота его сестрой Р. К. Грот и первоначально публиковался в журнале «Современник» за 1844 г. Как видно из рецензии, Андерсен-сказочник Белинскому еще не был известен; расцвет этого жанра в творчестве писателя падает на конец 1830 – начало 1840-х гг. Что касается романа «Импровизатор», то он не выходил за рамки традиционно-романтического произведения с довольно бесцветным героем в центре, с характерными натяжками в ведении сюжета.

Настоящая заметка была ответом на рецензию Ф. Булгарина «Петр Басманов. Трагедия в пяти действиях. Соч. барона Розена…» («Северная пчела», 1835, № 251, 252, подпись: Кси). Булгарин обвинил молодых авторов «Телескопа» и «Молвы», прежде всего Белинского, в отсутствии патриотизма, в ренегатстве. На защиту Белинского выступил позднее Надеждин в статье «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности».