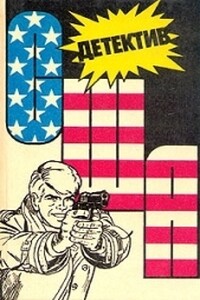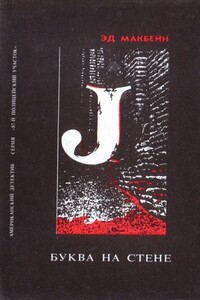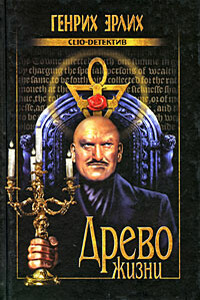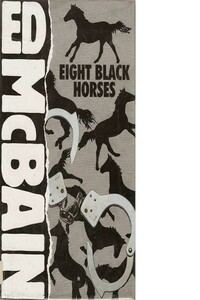Город представлялся ему галактикой, роем планет, вращающихся вокруг сверкающего солнца, комет и астероидов, взрезающих космическую тьму. В глазницах его порой безумно плясали цветные картинки, проносились трассирующие пули, во тьме, в которую он был погружен, взмывали ввысь стремительные ракеты. Он был слеп, но город этот знал.
В ноябре здесь нередко наступали холода. Он лично этот месяц не любил больше всего. В ноябре ему никогда не удавалось согреться. В ноябре даже пес дрожал от холода. Это был черный Лабрадор – собака-поводырь по кличке Стэнли. Думая о собаке, он с трудом удерживался от смеха – черный с черной собакой. Кто-то сегодня утром бросил в кружку монету, судя по звуку, четвертак, и спросил: «Эй, а собаку как зовут?» По голосу он легко узнал черного. Вообще, услышав человеческий голос, он без труда мог сказать, какого цвета и какой национальности его обладатель.
– Стэнли.
– Ну что ж, братишка Стэнли, держи хвост пистолетом, – сказал человек, отходя прочь.
Братишка Стэнли. Ну ясно, раз черный, значит братишка, Стэнли-то, наверное, принял этого типа за дурачка. «Эх, старина, – подумал он, – без тебя бы я пропал».
– Верно, Стэнли? – произнес он вслух и потрепал пса по голове. Пес никак не откликнулся, да и вообще был неразговорчив. Повезло ему с этой собакой. Когда он вернулся домой, оставив зрение на войне, соседи уговорили купить собаку. Стэнли не немецкая овчарка, но выдрессирован так же и водит его по всему городу, куда ему только заблагорассудится пойти. Он любит этот город. Любил его, когда с глазами было все в порядке, любит и сейчас. Сегодня вечером, по дороге домой, кто-то уступил ему место в метро. Судя по голосу, итальянец. «Эй, приятель, может, присядешь?» – и мягко взял под локоть. Наверное, ему приходилось сталкиваться со слепыми: другие, бывает, чуть не хватают за руку, и от неожиданности аж подпрыгиваешь от страха, а этот просто едва прикоснулся к локтю. «Эй, приятель, может, присядешь?» Что-то такое было в его голосе – нет, ему явно приходилось иметь дело со слепыми. Со старушкой или, положим, с калекой говорят совсем иначе. А здесь как мужчина с мужчиной, – мол, не желаете ли присесть? Он сел. В противном случае отказался бы, но тут никто не унижает жалостью, просто стараются немного помочь. Это нормально.
Слепой...
Даже если тебе всего двадцать лет, но ты слеп, тебя удивительным образом начинают воспринимать как старика. Он вернулся домой с войны десять лет назад с черной повязкой на глазах, мама и Крисси в три ручья рыдали, а он повторял: «Ну же, ну, ничего страшного, право, ничего страшного». Хорошенькое дело – ничего страшного. Ведь это он ослеп.
Но постепенно учишься снова видеть. Учишься обращаться со стариной Стэнли, который готов отвести тебя, куда угодно. Учишься читать и писать по Брейлю. Ну, таким вещам, как, например, завязывать шнурки, ты сразу научился – в конце концов большинство людей делает это, не глядя, так что тут слепота особенно и не мешает. И встряхивать монетки в кружке – непыльная работа. Достаточно повесить себе на грудь картонку, написать на ней несколько слов, и ты начинаешь зарабатывать себе на хлеб. Свободная инициатива. «Не проходите мимо, ради всего святого». Крисси написала эти слова на кусочке картона, сделала отверстия на каждом углу и продела нитку. Картонка, оловянная кружка, Стэнли – черный Лабрадор, и можно начинать зарабатывать деньги. Он навсегда останется благодарен войне. А как иначе он смог бы открыть собственное дело?
Это было десять лет назад.
Пенсия по полной нетрудоспособности. Оловянная кружка. Позванивай, позванивай монетами, прислушивайся к тому, как бросают еще и еще. Неси их домой, Изабел, добавляй к прежней добыче. Вот они сидят вдвоем на кухне, монеты разложены на клеенчатой скатерти, и они ощупывают их, раскладывают по достоинству, и снова ощупывают. С Изабел они познакомились шесть лет назад в каком-то баре. К тому времени он уже вполне освоился с ролью нищего: семенил себе, не отпуская поводка, за Стэнли, шел неторопливо по тротуару, позванивая монетами, на груди картонка, уже с новой надписью – ее придумал один приказчик из магазина на Двенадцатой. Тот день выдался удачным, и он пошел в бар пропустить рюмочку. Было, наверное, часа четыре. Рядом с ним сидела женщина. Запах духов и виски. В углу кто-то включил музыкальный автомат.
– Тебе чего, Джимми? – спросил бармен.
– Бурбон с содовой.
– Сейчас принесу.
– Мой отец любил бурбон с содовой, – сказала женщина.
Судя по голосу, белая. С Юга.
– Вот как?
– Да. У нас вообще любят бурбон с содовой. Я из Теннесси.
Он пробормотал что-то нечленораздельное.
– Вот твой бурбон, Джимми.
Бокал с легким стуком опустился на стойку бара. Он нащупал его.
– Ваше здоровье.
– Ваше. Меня зовут Изабел Картрайт.
– А я Джимми Харрис.
– Очень приятно.
– Вы белая?
– А вы что, не видите?
– Я слепой.
– И я тоже, – она негромко рассмеялась.
Через полгода они поженились. Оба слепые, как летучие мыши. Квартиру сняли на Седьмой, недалеко от Мейсон-авеню, от Даймондбека отказались, и вовсе не потому что Изабел была белой. Просто в Даймондбеке опасно жить – и черным и белым. На свадьбу приехал ее отец из Теннесси. К тому времени они уже полгода жили вместе, и если бы старику это не понравилось и он поднял шум, они мигом бы отправили его назад в Теннесси пить свой бурбон с содовой. Но старикан оказался славный. Уверен, мол, говорит, что за его дочерью будут хорошо присматривать. М-да. Она вышла за человека, который в двух сантиметрах от своей черной физиономии различить ничего не может, однако же в каком-то смысле за ней он действительно присмотрит.