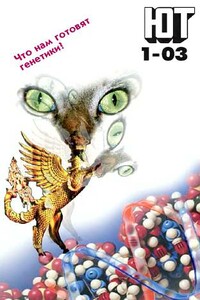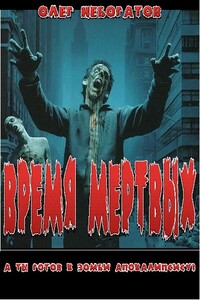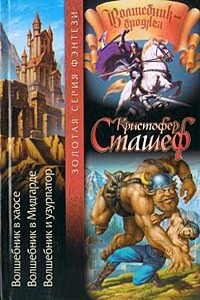Он был красив, тёмен и удивительно холоден. Таких, как он, обычно зовут играть в кино на роль молчаливых убийц с очень острым умом, строящих многоходовые стратегии и никогда не попадающих в руки правосудия. Да так и есть, наверное, в душе он и бывает таким. А его лицо — это маска, подумаешь, Дьявол. Всего лишь чин, не такой и крупный, просто дающий право убивать всех без разбору. И чем изощреннее — тем лучше, ведь многовековая тоска снедает любого бессмертного.
Как ему, должно быть, одиноко, подумала я и поёжилась. Такое глубокое одиночество мне знакомо лишь в какой-то степени: то самое одиночество, когда у тебя даже нет тебя. У тебя вообще ничего и никого нет, даже права что-либо иметь. Да и вообще тебя нет, чего выпендриваешься, стоишь. Притворяешься, будто живой. И тебя, того самого, которого нет, продувает насквозь ледяным ветром, и ты вообще больше ничего не чувствуешь: только боль, холод и ледяную тоску. В такие моменты хочется выть на луну от безысходности, только вот где она, эта луна, на которую вообще имеет хоть какой-либо смысл выть.
Собственно, такое одиночество, наверное, знакомо в полной мере лишь ему. В конце концов, это он у нас повелитель тьмы, и это его право: быть одиноким, а я, кто я такая рядом с ним. Никто. Маленькая девочка на поводке жизни, которую повели погулять и которая пришла продавать голову взамен на украшение для поводка.
Глупость какая, но всё именно так и обстоит.
Я вообще не понимаю, как так получилось, что он пришёл ко мне. Или я пришла к нему — неважно. Главное, как же так вышло, скрестилось-срослось-переплелось, что дорога его жизни — огромная и проходящая поверх многих — вдруг пересеклась с моей песчаной тропинкой. Тропинкой, посыпанной песком белым-белым, почти что снежным.
Да, ты сам мне так сказал, это ты сказал мне об этом. Я помню, как выясняла это у тебя. Всё, всё, в мельчайших деталях, даже цвет неба на закате, даже запах тростника по дороге домой. Я спрашивала про крики птиц и направления ветра, ты давал мне чужие карты и велел срисовывать путь, и смотрел очень хмуро, как будто это у тебя на сердце сгустились тучи, а не за стеклом наших окон. Хотя кто знает, как там всё было на самом деле.
Да-да, я выясняла любые мелочи, и даже цвет песка на берегу. Должен ли он быть теплым, почти соломенным, как сливочное масло или цвет загорелой кожи, как писчая бумага старых времен, с пожелтевшими краями; или же холодным, белым-белым, почти снежным, как коже умерших до того, как тлен её коснется.
Ты сказал — снежным, и чем холоднее, тем лучше.
Я пришла создавать для тебя твой Идеальный Мир. Я записала всё до мелочей, всё до мельчайших деталей, я знаю его тропинки чуть ли не лучше, чем ты сам, ты, такой холодный, похожий на Дьявола. Я потому и иду к нему, что только он и может помочь мне, кто, как не он, такой же непонятный и великий, кто, как не он. У него такие же длинные тонкие пальцы, у него такие же грустные темные глаза. Кто-как-не-он.
И я сказала ему — если я отдам тебе свою душу, сделаешь ли ты этот мир взамен на это? Я готова служить тебе верой и правдой сколько угодно тысяч лет, мне неважно, что там со мной станется, что вообще станется с кем бы то ни было. У меня тоже нет луны, на которую выть.
Он посмотрел на меня, долго и властно рассматривал, как кусок металла, из которого будут ковать меч, или как на предмет, который занятен, но вроде не нужен, или как на ребенка, который сломал дорогую вещь. Мне было без разницы, правда. Мне было так же холодно, как в тот день, когда я впервые поняла, что ты, мой любимый, не только чихал на меня со своей колокольни, но и вовсе жесток и безжалостен по своей природе. Я стала такой же… наверное. Просто не спешу что-либо делать, а ты, а ты так активен: все время смотришь на всех свысока и изредка даже бормочешь какие-то умные глупости, очень научные.
А Дьявол кивнул. Он, видимо, не любил длинных разговоров, как ты. Он просто сказал, что жалеет о том, что я пришла к нему — у меня, на его печаль, слишком светлая душа, сказал он мне, слишком светлая, она стоит дорого, и поэтому он построит твой мир, ведь я плачу хорошо. Он сказал, никто не заметит подмены, никто не поймет, что твой Идеальный Мир создал не ты. Даже сам ты не почувствуешь разницы: там будет тот же самый запах тростника и тот же самый белый песок, и даже чайки будут такие же. Точно такие же, сказал он. Только душа у них будет другая, но кто же теперь смотрит на это.
Я согласилась. Мне было просто: просить за других всегда проще, чем за себя. Чего тут стесняться. За других и требовать можно, и топать ногами, и вообще вести себя, словно вовсе не ведаешь приличий. Говорят, это даже приятно.
Когда Дьявол забрал мою светлую душу, я вовсе ничего не почувствовала. Как было одиночество, так и осталось, тот же самый пронзительный ветер с севера, та же самая боль и тоска, и по-прежнему пустое небо. Небо всегда было пустое, зато Дьявол есть, и то хорошо. И какая мне разница, где там моя душа — у меня ли в сердечном кармане, у него ли в заплечном мешке. По-моему, ему нравится моя душа, вот и пускай забирает, рассматривает дальше, как ценную брошь в подарок любимой, как серебряную цепочку, на которую можно повесить камень и броситься в реку. Пусть берет, хранит, как хочет, пусть пылится в любом месте. Мне не жалко. Мне уже ничего не жалко. Пожалуй, мне просто нравится песок на моей дороге, вот и хожу здесь, брожу, смотрю.