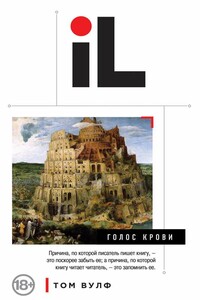«На том и прощаюсь, дорогая мама. Надеюсь, еще увидимся, а если нет…»
Простой карандаш в руке светловолосого молодого солдата замер, Николай поправил воротник гимнастерки, с тоской посмотрел на широкий и сильный Днепр, на гордость Советского Союза красавец Днепрогэс имени Ленина… Снаряды градом летели через плотину. Танки противника были уже на том берегу, враг прорвался на остров Хортица. А на их берегу стояли заводы, там лили алюминий и сталь для оружия, там решались судьбы войны. И утром он сам слышал, как командир сказал: сдавать их нельзя, на эвакуацию нужно время. А до тех пор нужно отстоять Запорожье любой ценой. Осталось смириться, что частью этой цены станет его 22-летняя жизнь. Хоть смириться со смертью в 22 года было так же трудно, как поверить в нее. Так же трудно, как написать маме правду.
Помедлив, он высвободил из ворота цепь со старым и темным медальоном, отмеченным красным камнем. Медальон дала ему мама. Он хотел открыть его, но не открыл. Он вдруг подумал, что если откроет и увидит лицо матери, то точно не сможет… не сможет так просто и ясно сказать: «Я тоже готов погибнуть за Родину». Он знал, что сегодня днем неприятель смял в кашу шестую и третью батарею 16-го зенитно-артиллерийского полка. Знал Алешу из третьей — одного из двух сотен, ценой собственной жизни подаривших городу лишних десять часов… Знал, что их батарея будет следующей.
Он совсем уж собрался с духом, чтоб завершить печальную строчку, как вдруг ощутил, что стало странно, неестественно тихо. Николай поднял голову и увидел, что по плотине движутся гитлеровцы… А затем почувствовал, как земля под ним дрогнула, покачнулась под ногами.
Над Запорожской дамбой встал огромный черный гриб взрыва. Солдат увидел, как одна из машин, еще секунду назад спешившая через дамбу, летит вниз — перевернувшись в воздухе, небольшой грузовик с брезентовым кузовом рухнул в Днепр. За ним посыпались другие машины.
Солдату казалось, что все происходящее происходит невыносимо медленно, вынуждая его переживать каждую долю секунды.
Он видел, как из машин на лету вываливались люди, как дым от взрыва осел, полукруглая плотина Днепрогэс улыбнулась страшным оскалом чудовища, лишившегося передних зубов и намеревающегося немедля отомстить за свой позор. А из образовавшейся прорехи медленно вставала громадная 30-метровая волна. Вставала, как сама война, как сама смерть…
Николай понимал, что это бессмысленно, что его письмо уже никогда не достигнет адресата, но быстро, очень быстро перечеркнул последнюю строчку и нацарапал спотыкающимся почерком:
«Прощай, мама, я не вернусь».
А волна-смерть уже неслась вперед, со скоростью в десятки километров в минуту заглатывая в огромное брюхо движущиеся по Днепру лодки, суда и их команды, смывая нижнюю часть Запорожья, хозяйственные постройки, дома и людей, смывая расположенные ниже деревни, сотни голов лошадей, овец и коров, днепровские плавни и укрывшихся в них подразделенья фашистов, их переправы и вооруженье, смывая с лица земли подступившего к Запорожью противника, сметая целые дивизии врага… и не различая своих и врагов.
* * *
— Все… Прощай. Я ухожу. — Мирослав говорил нервно и скупо. Он не смотрел на Машу.
— Да… — Она тоже смотрела не на Мира — на шумную, заполненную машинами Набережно-Крещатицкую улицу, на старые подольские дома и воспарившую в небе над ними Андреевскую церковь — куда угодно, но не на него.
— Так будет лучше, — сказал он.
— Да, — глухо повторила она.
— Прощай.
— Да.
— Я иду.
— Да. Иди.
Но он все стоял. В волнах солнца нежился большой, ласковый, неповоротливый Днепр и Труханов остров, усеянный голыми пляжниками, как банка варенья летнею мошкарой. Но Мир не видел их, созерцая нечто темное, мутное внутри себя:
— Прости, что бросаю тебя…
— Я знала, рано или поздно это должно случиться. Ты устанешь. Ты больше не сможешь терпеть.
— Впрочем, ты ведь не будешь одна, — Мир не хотел, чтоб слова прозвучали с упреком, но так, как хочется, получается далеко не всегда. Он быстро обернулся назад и увидел то, что и ожидал, — на верхнем зубце вросшего в днепровскую набережную готического здания столетней Насосной станции сидел черный ворон.
— Я сделала свой выбор, — сказала Маша. — Ты тоже. Иди.
Мир быстро отвернулся от ворона:
— Все равно, если что-то случится, тебе достаточно произнести мое имя. И я вернусь.
— Я не произнесу его. Обещаю. Знаешь пословицу… Уходя — уходи. Иди.
Не стой. Уходи. И прощай.
Все так же, не поднимая глаз, Маша резко, словно бы отрезая себя от него, развернулась на пятках и, пройдя чрез короткий мостик, вошла в стройную, похожую на крепость-башню, стоящую на воде церковь Николы Мокрого… Она так и не увидела, как Мир Красавицкий растаял в золоте июньского дня.
* * *
Киев, 1823 год
— Вибач, що кидаю тебе, Марічко… Що ж… Ворон потурбується про тебе.
— Я розуміла, що рано чи пізно це станеться, княже… ти покинеш мене. Іди. Не стій. Прощавай, — резко, словно бы отрезая себя от него, полногрудая Маричка развернулась на каблуках красных сапожек и запела.
Из-за грубовато нарисованного на холсте-заднике Днепра на подмостки выскочили простоволосые танцовщицы в зеленых одеждах и пустились в пляс. Вслед за ними из рукотворных театральных вод вылез дед в длинной рубахе и заслушался, внимая девичьей песне.