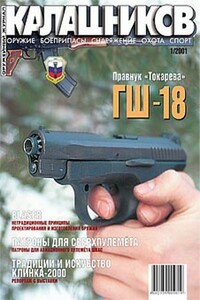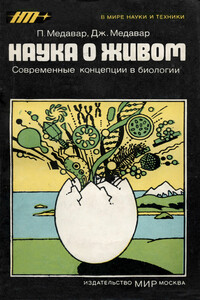* * *
Сраная дрянь!
Боль впилась в ее правое ухо десятком невидимых собачьих зубов и тряхнула так, что небо над Броккенбургом на миг полыхнуло, как после разряда молнии. Боль столь сильная, что ей даже почудился тонкий хруст пробитых хрящей и треск лопающейся кожи.
От неожиданности Холера взвыла во весь голос.
Пресвятая сука, как же больно!
Слепень, подумала она, шипя сквозь зубы, словно это могло унять боль. Здоровенный такой жирный слепень, голодный как тысяча чертей, пристроился незаметно ей на плечо, улучил момент и…
Нет, поняла она секундой позже, еще прежде того, как ее пальцы рефлекторно сомкнулись на ухе, пытаясь унять эту грызущую ее ушную раковину боль, это не слепень. Не бывает слепней в горах. А если бы какой и забрался так высоко, ядовитый туман Броккенбурга убил бы его задолго до того, как господин слепень вздумал бы пообедать, повязав себе на шею крохотную салфеточку.
Нет, не слепень. Другая плотоядная тварь. Совсем другая.
Ее пальцы, ощупывавшие звенящее от боли ухо, замерли в растерянности, обнаружив то, чего не рассчитывали обнаружить, рваную влажную бахрому на том месте, где прежде звенели серьги.
— Чертова сука! — рыкнула Холера, ощущая на пальцах теплую липкую влагу, что-то вроде потеков не успевшего застыть сургуча на конверте, — Ах ты четырежды выпотрошенная свинячьим хером чертова…
Но даже разозлиться толком не получилось. Ее несчастное разорванное ухо, болтающееся теперь рваным лопухом, хоть и звенело от боли, не утратило способности передавать звуки. И звуки, которые оно воспринимало из окружающего мира, очень не понравились Холере.
Она вдруг отчетливо ощутила сковавшую разноголосый птичий гомон толпы нехорошую тишину. Точно невидимые руки опустили платок из плотной ткани на клетку с галдящими пташками. Вокруг нее вдруг оказалось пустое пространство, до черта пустого пространства, хотя еще секунду назад она шла, окруженная со всех сторон острыми плечами других студенток. И это тоже было очень паршиво, так паршиво, что даже боль в ухе на миг сдвинулась куда-то в сторону, ушла на краешек сознания.
Человеческое море вокруг нее, бурля, стремительно расступалось, будто какой-то старый педрила вроде Моисея, воздев руки, повелел ему разойтись в стороны. Хлынуть прочь от Холеры во все стороны, обнажая морское дно. Миг, и она уже видела острые рифы, обнажившиеся в ее толще, три фигуры, замершие в нескольких метрах от нее. Единственные, оставшиеся недвижимыми.
И только тогда Холера поняла, в какую паскудную историю попала.
Не лгали, видимо, семейные легенды, гласящие, что прабабка была маркитанткой при компании ландскнехтских рубак, готовой задирать юбку хоть перед обозным ослом, звенело бы серебро. Ничем иным невозможно было объяснить ту череду неудач, которые преследовали ее потомков на каждом шагу, особенным образом выделяя ее, Холеру. Особенно тут, в трижды проклятом Брокке.
Их было всего трое и на первый взгляд они не выглядели угрожающими. Ни угрожающими, ни внушительными. Некрашеные шерстяные дублеты с антрацитовыми пуговицами, холщовые штаны, тяжелые, из грубой кожи, ботинки. Они почти не выделялись из пестрого человеческого фона, кабы не одна деталь, от которой Холера мгновенно ощутила холодное бурление в мгновенно слипшихся кишках. Их плащи были оторочены мехом, густым и серым, похожим на жесткие волчьи космы. И ухмылки тоже были волчьи, острые и серые, обрамленные тонкими искривленными губами.
«Вольфсангель». И сразу трое, что не просто плохо, а в край паршиво. Не совпадение, не игра, поняла Холера, все еще не в силах выпустить из пальцев кровоточащее разорванное ухо. Трое — это уже стая. А стая не играет и не шутит. Она загоняет и охотится. И рвет в клочья, как визжащего молочного поросенка.
Вели от самого университета, мгновенно поняла Холера, ощущая беспомощное шипение слишком поздно пробудившихся инстинктов. Убедились, что жертва одна, что рядом нет никого из ее ковена, и вели ее спокойно, как ведут рыбу на леске по течению. Чтоб в нужную секунду взять острыми когтями за жабры.
Холера быстро оглянулась, ища пути к отступлению. И ничего, конечно, не нашла. Глупо устраивать засаду там, где жертва может сбежать. За волчицами водились многие грешки, но только не глупость.
Узкий переулок так же неудобен для драки, как и для бегства. По сторонам, напирая друг на друга, как зубы, выдавливающие друг друга из челюсти, жались дома, и жались так плотно, что в щель между ними не проскочила бы, пожалуй, даже кошка. Вперед или назад, третьего пути нет. И даже небо над головой, затянутое удушливым ядовитым смогом небо Броккенбурга, походило на клетку из-за огромного количества переплетающих и свисающих бесформенными коконами проводов. Даже будь она способна взмыть вверх, как муха, мгновенно увязла бы в этих силках.
Тупая сука!
Холера осклабилась, злость на саму себя на миг затмила даже боль в разорванном ухе. В том, что она оказалась здесь одна, без своего ковена, приходилось винить саму себя. На последней лекции по спагирии[1] они были вместе с Котейшеством и Страшлой, собираясь вместе идти домой. Но после лекции Мешок попросил Котейшество задержаться на несколько минут, кажется, намеревался дать ей какие-то пояснения по занятиям, которые ей самой предстояло завтра вести у школяров из первого круга. Страшла, конечно же, изъявила желание ее подождать. Эта сучка привязана к Котейшеству поводком, аж сопли текут, когда ее видит, даром что сама страшна посильнее многих порождений ада, которых заклинает.