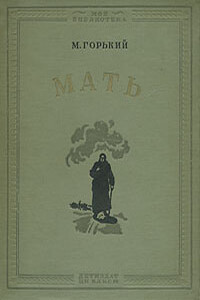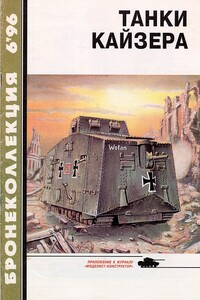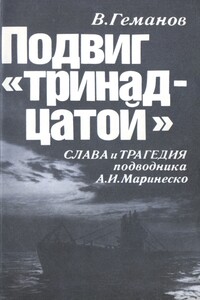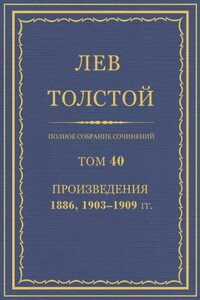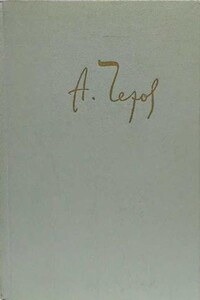Миляев, поэт из признанных, дописавшийся до эпитета «маленький, но симпатичный талант», мужчина лет под тридцать, с пышной шевелюрой и тёмными карими глазами, пришёл в гости к своим знакомым, но застал дома только сестру хозяйки дома, гимназистку седьмого класса, Верочку.
Ему некуда было идти, и он решил посидеть несколько времени с девочкой, тем более, что она заявила ему:
– Сестра скоро воротится.
Он заметил в её меланхоличных серых глазках желание задержать его, снял пальто, прошёл с нею на террасу, любуясь её смущённым и довольным личиком.
Там они сели за стол друг против друга, и он стал ждать, как девочка будет играть роль хозяйки дома, нарочно не говоря ничего, чтобы продолжить её замешательство, которое льстило ему.
Он пользовался у женщин репутацией «неотразимого», знал это и никогда не прочь был лишний раз убедиться в этом. Конечно, Верочке ещё только семнадцать, но почему не поиграть и с котёнком? Иногда это забавно.
Было часов около девяти августовского вечера. Темнело. Сад одевался тенями, деревья стояли неподвижно, всё кругом точно задумалось в предчувствии близкой осени. В воздухе стоял тонкий аромат цветов, в небе красивым узором раскинулась прозрачная группа перистых облаков, а на террасе царило молчание, грозившее стать неловким, если оно затянется ещё минуты на две.
Миляев смотрел на бледное личико Верочки, нервно перебиравшей пальцами концы лёгкого платка, накинутого на её плечи, смотрел и думал:
«О чём бы с нею заговорить? Вот неудобство знакомств с этими барышнями, болтать они ещё не умеют, ничем не интересуются, ничего не понимают».
И, опытный ловелас, он сам начинал чувствовать некоторое смущение перед ребёнком, который, сидя против него, украдкой наблюдал за ним глазами, полными не то каким-то серьёзным вопросом, не то только желанием как-нибудь прекратить это неловкое молчание.
Он рассмотрел уже её всю до мельчайших деталей, умелым взглядом знатока, и нашёл, что в общем она, эта девчурочка, отнюдь не дурна. Странно, что раньше он не замечал этого.
– Пётр Николаевич! – вдруг робко заговорила она, кутаясь в платок.
Он с вопросительной улыбкой на губах ждал продолжения, изучая её лицо, вспыхнувшее яркой краской волнения.
– У вас много стихов? Дома… не напечатанных ещё?
– Да… есть… А что?
– Так… Я бы хотела все, все прочитать их.
– Это мне лестно слышать. А вы читали уже мою книжку?
– О, да! Сколько раз. И много знаю из неё наизусть. Некоторые стихи мне ужасно нравятся. Ужасно! Я вся дрожу, когда читаю их.
– О! Вот как даже. Это какие – можно знать?
– Много! Особенно нравятся мне те, в которых вы говорите о себе и о… своём горе…
Они такие красивые, грустные… как вечера, то есть как последние солнечные лучи, пред тем как угаснуть, – я не знаю, как сказать!
– Да вы поэтесса! Вы сами, может быть, пишете? А? Ну, скажите? Или нет, вот что, скажите мне те стихи, которые вам больше других нравятся. Пожалуйста!
– Да я не знаю… у меня так много любимых! – И она снова вся зарделась от смущения.
– Говорите первое, которое вспомните! Мне будет крайне приятно послушать вас. Вы, как птичка, прощебечете. Ну, прошу же вас, Верочка!
Она откинулась на спинку садового кресла, закрыла глаза, ровно качая головой, очевидно, в ритм стихов, повторяемых ею про себя, и через минуту, смущённо улыбнувшись, неуверенно начала:
– Вот…
Дремлет сад… И небо дремлет…
И, впивая аромат
Сонных роз, высоко в небе
Крошки-звёзды тоже спят…
Вот плывут куда-то тени,
Тихо, медленно плывут,
И моё больное сердце
В даль с собой они зовут.
Под окном моим сквозь дрёму
Шелестит ветвями клён,
У корней его левкои
Погрузились в сладкий сон.
И, когда над садом ветер
Вдруг задумчиво вздохнёт,
Мне лицо их тонкий запах
С тихой лаской опахнёт.
Но зачем? Я этой лаской
Не утешен, не согрет.
Что цветы мне, что мне звёзды,
Если в сердце жизни нет.
– Это мне нравится потому, что просто так. Просто и грустно очень. И потом рифмы через строчку и так отрывисто, – видно, что это прямо из сердца, как осколки чего-то разбитого, упало на бумагу.
– А вы хорошо, тонко понимаете, – сказал Миляев, сильно польщённый и заинтересованный ею. – Знаете, скажите ещё что-нибудь. Прошу вас, вы так мило и умно читаете!
– Ещё вот эти мне очень нравятся, – ободрённая похвалой и теряя смущение, с блестящими теплом и светом глазами сказала она. – Вот эти, я их не совсем понимаю, но они тоже такие грустные. Вы просите кого-то:
Подожди ещё немножко!
Поласкай меня, помучь
До поры, пока в окошко
Не заглянет солнца луч!
Он заглянет – ясно станет,
Что здесь были ночь и ты…
Он быстро остановил её, боясь быть скандализированным… Стихотворение было нескромно, и она, очевидно, не понимала его соли.
– Ах это? Но скажите…
– Что мне нравится в нём? – перебила она.
– Нет, то есть, пожалуй, да.
– Видите ли, вы говорите далее, что луч солнца разрушит ваши грёзы и мечты о неземном счастье, снова возвратив вас к действительности, и что снова грустные песни раздадутся в вашем сердце. Вы не любите действительности, и днём вам всё кажется грубым и дурным… и в то же время вы говорите, что вам всегда приятно видеть, как первый солнечный луч возвращает вас к реальному, убивая своим светом ночные видения и чувства… Я не понимаю – почему это?