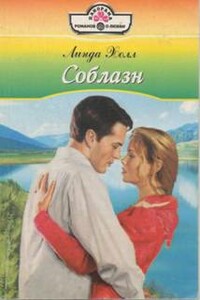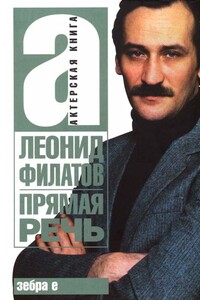Это единственное в моей жизни место, где я ощутила миг детства. Наша речка Уруп быстрая, горная. Помню, через нее свисала кладка — так назывался натянутый на проволоке длинный мостик. Никто никогда не ремонтировал его. От дыр на месте отсутствующих досок кружилась при переправе голова, поэтому из станицы Отрадной в хутор Труболёт ходили лишь в случае крайней необходимости. При переходе мостика мы, дети, держались лишь за один железный провод, поскольку до другого еще не дотягивалась рука.
Главное наше обиталище было, к счастью, под кладкой, по эту сторону Урупа. Здесь и теперь есть белая глинка, а вернее, голубая. Не знаю даже, как ее определить правильно, но это что-то вроде пластилина. Тут и было наше «птичье» сборище, наш «птичий базар». Мы сидели на берегу целыми днями и лепили: рисовать ведь было нечем да и не на чем. А в детстве всегда тянет к рисованию. Лепка заменяла любые занятия по детскому творчеству. И посегодня с острова видны чьи-то макушки и острые коленки.
А как ноги затекут от долгого сидения, так с наслаждением опять в Уруп — и косточки хоть и молодые, но с удовольствием распрямляются. Поплескаться ведь тоже великое счастье. И тогда, да и теперь тоже, вылепленные бублички и коники оставлялись на ночь, но большие «объекты» нарочно затаптывали ногами: война. Хоть какая-то, но война. Затоптать «этих». А «эти» считали за счастье быть на Урупе, не помнить причиненного им зла — и опять ляп-ляп, шлеп-шлеп по глинке голубой ладошками…
На той стороне, куда кладка ведет, в начале лета зацветали полевые цветы «лазорики», похожие на несложный по форме мак: пять лепестков, а листья тонюсенькие, как у укропа. Вот тут лепка прерывается на короткое время и все тянутся на тот берег за «лазориками»…
Однажды осенью мама повела меня в магазин купить туфли. Не хотелось надевать их на пыльные ноги, и мы просчитались: не померив, взяли тесноватые. А туфельки парусиновые, пахнут бумагой и клеем.
— Завтра, доченька, ты пойдешь в школу, — сказала мне мама.
Как воду ношу из колодца или хожу за солью, так и в школу пойду — надо выполнять мамин наказ. Зашли еще в другой отдел сельпо, и мама купила мне пальто с байковым зеленым верхом.
— Это на зиму. Ничего, что ладони и пятки прикрыты, — на вырост покупаем.
И действительно, кругом полыхает огнем осень, а пальтишко ни к селу ни к городу бьет по пяткам. Хоть и тоже пахнет новым, незнакомым магазинным запахом, как когда-то матросочка и лента, однако это ватное одеяльце в форме пальто мне хотелось как можно скорее скинуть.
Утром надела новые туфли и, пожалев маму, не сказала, что они, как кандалы, сдавили мне ноги.
Надо было на размер больше, да куда там: разве об этом могут заявлять те, кому покупают, да и кому заявлять — маме, мамочке моей!
Словом, прощай, белая глинка…
Направили меня в ШКМ, школу колхозной молодежи. Мне «как молодежи» было тогда неполных шесть лет. Это не ошибка: школа была одна на всю станицу, и нас, маленьких, — тоже туда.
Страх охватил! Первый в жизни. Длинный коридор, фикусы возле окон… Взялись за руки и вошли парами. На маленьком возвышении появилась тетка и вдруг крикнула как дурная:
— Дете!
Я увидела, как у нее заходила ходуном нижняя челюсь.
— Дете! Сегодня вы вступаете… — и т. д.
Мы стоим на тряпичной дорожке и слушаем все это, а рядом с нами матери-общественницы. Вообще-то дорожка из тряпок лучше, чем дорогие ковры. Теперь они все больше синтетические и бьют током, а те не били.
Дорожка дорожкой, а тетка та проклятущая все орет и орет. Но ее не унять, у нее такое дело, как мое — стоять, взявшись за руки с каким-то мальчиком, и молчать. Нижняя челюсть ее ходит ящиком вперед-назад, вперед-назад. Я заплакала от этого крика и от дорожки, где все рядно стояли, от фикусов, светящихся утренним солнцем, и от потной руки мальчика, который тоже был нем от происходящего. «Мама, мамочка, — подумала я, — зачем нам это с тобой?» К счастью, был дан сигнал разойтись по классам, и я вздохнула с облегчением оттого, что уходила от этой крикуньи с бородавками.
Мы вошли в класс. Я не выпускала потную руку мальчика, а он мою. Сели. И тут я подумала, что рубить топором не будут — не белые же. Пересижу, а там и к маме — веселой, с песнями под гитару, к моей двадцатипятилетней мамочке, которая меня заберет навсегда отсюда. Но не тут-то было: та крикучая тетка вошла именно в наш класс. А я-то уж собралась сбросить туфли, что заковали мои ноги до опухоли. Смотрела я на учительницу, слушала ее, заходящуюся в крике, и наблюдала, как ящиком движется ее челюсть. Когда она произносила задумчиво промежуточное «э-э», перед глазами вырастала другая картина: белый Уруп, голубая глинка, «лазорики»… И я решила с учебой покончить — навсегда.
Зазвенел звонок, и, не сказав никому ни слова, я выплыла из класса и из той истории — и на Уруп! Вот где радость, вот где блаженство! Пускай они себе там учатся, а тут детишки пятилетние, не подозревая, откуда я к ним пришла, ляп-ляп — по голени, ляп-ляп — ладошками, резвились вовсю на воле. С дремотой долгожданного избавления пристроилась возле них, сунула портфель под голову, туфли, давно снятые, положила рядом и вкусила кусочек рая: они лепят, солнышко светит, подальше от берега забрасывают ведра в Уруп женщины, пришедшие за водой. И я тут, где мне так отрадно и такой покой на душе…