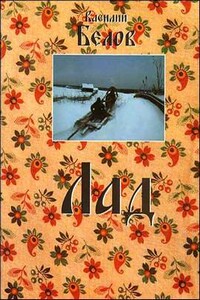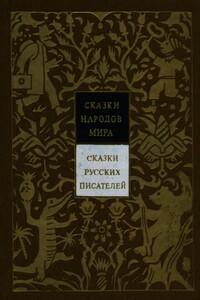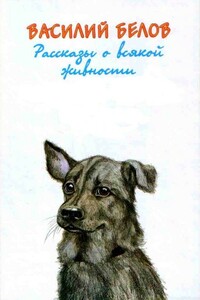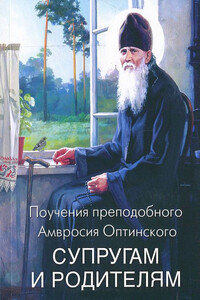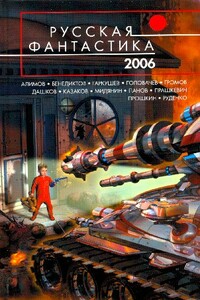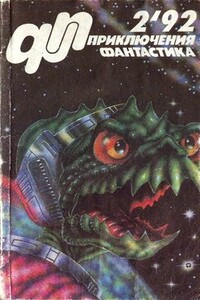Василий БЕЛОВ • Невозвратные годы (продолжение) (Наш современник N2 2002)
Василий Белов
Невозвратные годы
Семейная жизнь у моей бабушки, Анны Михайловны, не сложилась. После рождения у нее второго незаконного ребенка ее отец, Михайло Григорьевич, изгнал дочь из дома, и она уехала с двумя малолетними детьми в Вологду, нанялась вначале в прислуги, затем работала у купца — грузила и разгружала баржи с лесоматериалом. Она умерла в Вологде в больнице от какой-то болезни. Случилось это примерно в тысяча девятьсот восьмом году, когда моей матери не было и трех лет.
Двух сирот власти по этапу отправили из Вологды к деду в деревню Тимониху.
Что значит по этапу? Это значит — от деревни к деревне. Сопровождала сирот какая-то бумага, конечно, я не знаю ее содержания. Детей везли от деревни к деревне, ночлегом и кормежкой обеспечивали так называемые десятские. Они же на следующее утро везли сирот в другую деревню по намеченному маршруту. Те же десятские принимали слепых, бездомных и всех путешествующих.
Интересно, что мать запомнила, чем их угощали в деревнях на ночлегах. От деревни к деревне, день за днем, сквозь церковные посты и двунадесятые праздники, через поля и покосы, через волока и болота ехали двое сирот к суровому православному деду Михайле Григорьевичу Коклюшкину, уроженцу деревни Осташихи Азлецкой волости Кандиковского уезда. Дед был не только законопослушным, но и истинно православным христианином: что впереди, что позади, христианство или законопослушание, пусть читатель думает сам...
Так или иначе, Михайло Григорьевич обоих сирот принял и даже выучил в церковно-приходской школе у отца Феофилакта... А может, был и другой священник? Во всяком случае, в 1906 году крестил мою мать именно
о. Феофилакт при псаломщике Николае Петропавловском... (Вологодский архив, фонд 496, опись 55, дело 179.)
Три группы церковно-приходской школы дали некий толчок, ускорение эстетическому развитию сиротки. Природные способности, видимо, тоже сказывались, так как Анфиске очень нравилось петь в церковном хоре.
Праздничное и уличное хоровое пение, разумеется, дополняли друг друга, музыка была у Анфиски в крови... Я навсегда запомнил, что, как, когда и с кем пела моя мать!
Навсегда запечатлено в памяти и то, как Михайло Григорьевич лежал со мной на печи и говорил сказку про тетерева. Мне было тогда около трех лет. Конечно, я не смогу дословно повторить слова прадеда (для меня он всегда был “дедушкой”), я могу передать лишь ощущение нашего печного лежания. Дело, видимо, происходило либо глубокой осенью, либо зимой. Если тембр и окрас голоса Фомишны я помню явственно, то голос мамина деда совсем не отпечатался в моей детской слуховой памяти. Осталось лишь ощущение старческой доброты, ласки, печного и душевного тепла. Вот я гляжу в щелястые потолочины, гляжу и слушаю примерно такие слова дедушки: “Уселся тетерев на березе на самом верху, глядит вниз. А там лиса прибежала и говорит: “Тетерев, тетерев, я в городе была”. — “Бу-бу-бу, была так и была!” — “Указ добыла”. — “Бу-бу-бу, указ так указ!” — “Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а гулять бы по зеленым лугам”. — “Бу-бу-бу, гулять так и гулять!”. И только вздумал тетерев по городскому указу слететь с березы и погулять по травке, лиса вдруг молвила: “Погляди-ко, тетерев, не видно ли сверху кого?” — “Как, лиса, не видно, хорошо видно!” — “А кого ты углядел?” — “Лошадь бежит”. — “А на лошади-то сидит ли кто?” — “Как не сидит, сидит. Человек на лошади! Бу-бу-бу, на лошади человек, а на спине у него длинная палка”. — “А погляди-ко, тетерев, не бежит ли кто рядом с лошадью?” — “Как не бежит, жеребенок рядом попрыгивает”. — “А какой у жеребеночка хвост?” — лиса спрашивает. — “Бу-бу-бу, хвост у него крючком!” — “Ну, прощай, тетерев, мне дома недосуг”. И побежала лиса, да так шибко, что тетерев не успел и слова сказать”.
Помню, как пил дедушка чай с блюдечка. Он причмокивал, как петух, поднимал голову вверх, делал глоток. Перед смертью он заблудился на обширной повети в верхнем сарае. Как говорили, не мог он в темноте найти дорогу от нужника к двери верхней избы и кричал: “Караул! Анютка, выведи ради Христа”. Анютке не особо хотелось идти в верхний сарай, в темноту, но она бросала все и выводила старика к избяным дверям.
Не помню той поры, когда не стало дедушки. Его сын Иван Михайлович Коклюшкин стал мне воспитателем и наставником. Детей у Ермошихи не было, готовились сделать из меня приемыша. Когда родилась моя сестрица Шура, простоватая Ермолаевна заговорила об этом важном деле. И начал я выходить “в примы”, то есть в дом крестного, как все мы звали Ивана Михайловича.
Крестный ходил на деревяшке, он потерял ногу, когда ездил на Шпицберген. Дело было в начале коллективизации. Мельничный пай он продал Мише Барову по прозвищу Кот. Сам завербовался и двинулся за Полярный круг. Но шахтера из Коклюшкина не получилось, он простудился, заболел, вылетел с острова и лишился ноги. Сделал сам себе деревянную, она и сейчас валяется где-то в доме. За марьяж с безбожниками Бог, вероятно, наказал крестного. Дело в том, что еще до Шпицбергена крестный заразился атеизмом от знакомого, который бурлачил в Питере. Запретные книги возили оттуда. Один из чуланов (сенников) у крестного запирался большим амбарным ключом*. Там крестный прятал эти книги. Мама запомнила два названия: Гарибальди, затем Ренан, “Жизнь Иисуса”. (Я до сих пор не читал ни Ренана, ни Гарибальди. Желания читать теперь почему-то нет. Хотелось их читать раньше.)