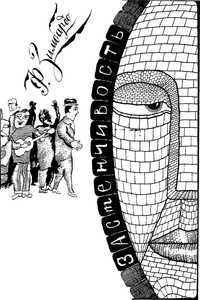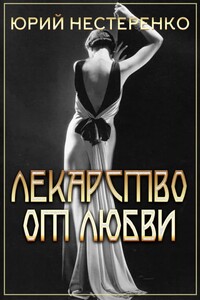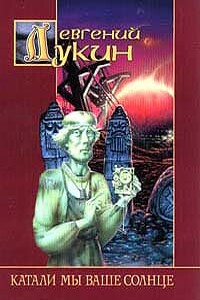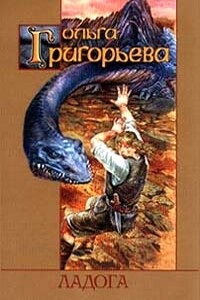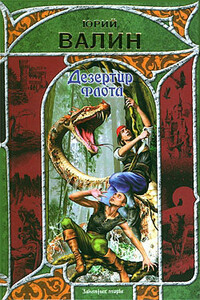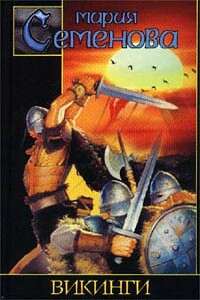Очаг немилосердно дымил. Тяжелые жирные хлопья копоти сонно кружили по хижине, неторопливыми струйками выплывали в раздвинутые на день окна, в двери, в многочисленные щели обветшавших, источенных древогрызами стен — куда угодно, только не в дымоход.
Раха, с трудом выпрямившись, утерла засаленным подолом потные толстые щеки. Глаза невыносимо жгло, веки заплывали слезами от злого кухонного чада. А может быть, и от злой обиды на мужа, который для других днем и ночью даром горбатиться готов, а на нее, Раху, и плюнуть поленится. Ишь, сидит, объедок противный! И ведь с самого утра так вот сидит, строгает что-то (не ради дома, конечно, жди от него!), и головы не поднимет, и слова доброго не скажет. Да что там доброго — никакого не скажет. Хоть бы обругал, все веселее бы стало... Бездонная Мгла, ну почему, ну за что же такое наказание?! У всех мужики как мужики, а у нее — так, горшок треснутый: и толку никакого, и выкинуть рука не поднимается. Строгает, строгает... До лысины ему, что весь пол щепками своими погаными завалил, что дымоход не чищен, что чад, — все ему до лысины. Может, побить его? Нет, не стоит. Пыталась уже однажды, так потом три дня боялась к колодцу выйти, соседкам синяки свои показать... Вот поди ж ты, на вид из мозгляков мозгляк, чихнешь — расплескается, а силища в нем такая... И то сказать, воин же...
Это мамаша, помнится, присоветовала: «Ты, Раха, как мужика себе выбирать станешь, гляди, какой пощуплее. Чтоб при случае и поучить можно было». Спасибо ей, насоветовала, червивая голова... Ох, прости, Мгла, прости, прости, Бездонная! Это ж такое о покойнице помыслить! Да уж лучше голову свою глупую бабью об очаг разбить, чтоб дрянного не думала! Ну, быть теперь беде, быть несчастью: накажет Бездонная за непочтение к родительнице усопшей, ох накажет! А все из-за него, из-за этого древогрыза проклятого!
Раха в сердцах плюнула в очаг, обернулась к мужу — выместить накипевшее на душе, сорвать злость:
— Долго еще я буду мучиться, Хон?! Чад уже все глаза повыел, сил моих больше нет! А ну бросай свою деревяшку, лезь на крышу — дымоход чистить! Ну, кому говорю?!
Муж даже взглядом ее не удостоил, только брезгливо шевельнул губами:
— Доделаю — почищу. Отстань.
— Доделаю... — передразнила Раха. — Да когда ж ты, наконец, доделаешь ее, погибель мою?
— Завтра.
— Ах завтра?! — Раха аж задохнулась от негодования. — Ну тогда и есть будешь завтра!
Она пнула ногой стоящий в очаге горшок, тот раскололся, и облитые варевом угли зачадили пуще прежнего.
Хон, морщась, слушал, как женщина, выскочив во двор, продолжает там бушевать, расшвыривая и пиная все, что попадается под ноги; как вопит — надсадно, пронзительно, явно надеясь на сочувствие соседей:
— И вечером в ложе с собой деревяшку свою бери, а я лучше с настоящим древогрызом спать буду, чем с тобой!..
Раха вдруг замолчала, и Хон в изумлении поднял голову: что-то ненадолго ее сегодня хватило. Странно... Может, захворала? Или просто соседок дома нет?
А притихшая, испуганная Раха стояла у плетня, до матовой белизны в пальцах вцепившись в его трухлявые прутья, и смотрела на неторопливо приближающуюся к ней судьбу. Вот оно, вот... Наказала-таки Бездонная...
По раскисшей от ночного дождя дороге брели двое в серых послушнических накидках — брели не спеша и понуро, с двух сторон поддерживая под локти кого-то, с головой укутанного в черное. Еще издали заметив идущих, Раха сразу поняла: Незнающего ведут. К кому бы это? Так ведь это и глупому ясно — к кому. И у Гуреи, и у Мыцы подрастают дети, у одной Рахи пусто в хижине. Пусть и нет в этом ее вины, а все же так быть не должно. Значит — к ней. Значит, и ее не миновало...
А послушники (незнакомые, не с ближней заимки они, чужие) уже рядом. Остановились, оглядели хижину, двор, Раху, и один из них спросил обличающе:
— Уж не ты ли женщина Хона-столяра?
Раха попыталась ответить, но не смогла разлепить внезапно пересохшие губы и только закивала торопливо.
— Тогда возрадуйся, женщина Раха! — послушник говорил тихо, от его бесцветного голоса хотелось не радоваться, а плакать. — Возрадуйся, ибо Мгла дарит тебе новое дитя взамен сына, которого восемь лет назад погубила болотная хворь. Ну, что же ты не восхваляешь Бездонную?
Раха торопливо забормотала Благодарение, а сама все смотрела на торчащие из-под замызганного покрывала ноги. Голые, худые, грязные ноги подростка. Стройные ноги, слабые. Уж не девка ли? Да нет, не бывают Незнающие девками. Или все-таки девка? Мало ли чего раньше не бывало...
Некоторое время носящие серое придирчиво вслушивались в Рахину скороговорку. Потом, очевидно уверившись, что слова произносятся правильно и с подобающим почтением, один из них сдернул с приведенного покрывало:
— Принимай, Раха, чадо свое! А нам уж пора восвояси: путь далек, нелегок, и оставаться долее недосуг. Разве что чья-нибудь добрая благочестивая женщина предложила бы двум усталым братьям-послушникам пополнить оскудевшие животы...
Он с надеждой заглянул Рахе в лицо, но, уразумев, что ничего путного от обалделой бабы ему не дождаться, сплюнул злобно: