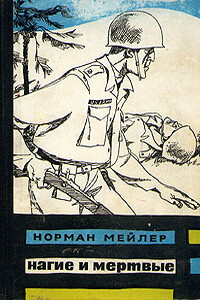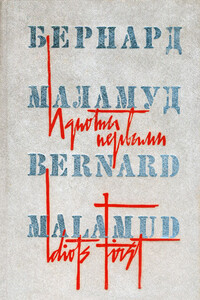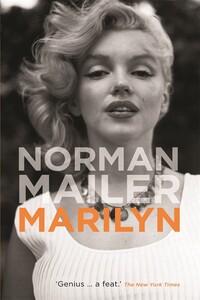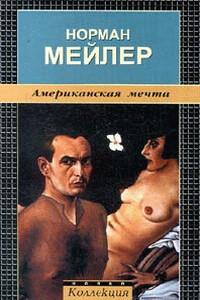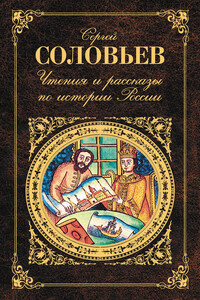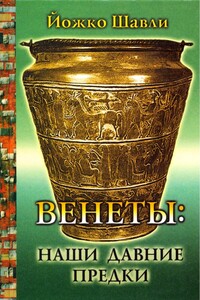Делмор Шварц
Сны ведут к обязательствам
Пер. Л. Беспалова
1
Год, пожалуй что, 1909-й. Мне чудится: я в кино, свет простирает свою длинную руку в темноту, вращает ее, мои глаза прикованы к экрану. Идет немой фильм, такие ставил еще допотопный «Байограф»[1] — актеры в них одеты нелепо, старомодно, один кадр рывком сменяет другой. Актеры, судя по всему, тоже передвигаются рывками и быстро-быстро семенят ногами. Вдобавок кадры сплошь в точках и черточках — можно подумать, фильм снимали под дождем. Свет плохой.
Сейчас воскресенье, 12 июня, 1909 год, мой отец идет по тихим бруклинским улицам в гости к моей матери. В свеженаглаженном костюме, высокий воротничок туго-натуго стянут галстуком. Побрякивает монетами в кармане — обдумывает, что бы такое остроумное ей сказать. А я, видать, разнежился в ласковой темноте кинотеатра; тапер изображает чувства и впопад, и невпопад — музыка заводит публику неведомо для нее. У меня нет имени, я забыл о себе. В кино всегда так, ведь оно, как говорится, дурман.
Отец идет улицами — одной, другой — мимо деревьев, газонов, домов, время от времени выходит на проспект, по нему ползет трамвай — то скользит, то стопорит. Кондуктор с пышными, лихо закрученными усами помогает молодой даме в шляпе — ни дать ни взять утыканный перьями горшок — войти в трамвай. Поднимаясь на ступеньку, она придерживает длинные, до полу, юбки. Кондуктор неспешно сдает сдачу, дергает шнур звонка. Это явно воскресенье: все по-воскресному нарядны, трамвайный лязг лишь подчеркивает тишину праздничного дня. Недаром Бруклин — город церквей. Лавки закрыты, жалюзи в них спущены, работают разве что магазины канцелярских товаров да аптеки — в их окнах красуются большие зеленые шары.
Отец выбрал дорогу подлиннее — он любит думать на ходу. Он думает о своем будущем и в гости приходит в приподнятом настроении. Он не обращает внимания ни на дома, мимо которых проходит, — сейчас в них садятся за воскресный обед, — ни на деревья, стоящие в дозоре по обеим сторонам каждой улицы, — листва на них уже совсем распустилась и накрывает улицу своей прохладной сенью. Время от времени проезжает карета, громко — точно камни — падают в этот тихий день на мостовую конские копыта, да раз в кои веки пыхтя проезжает автомобиль, похожий на пухлый диван.
Отец думает о маме: как приятно будет познакомить ее со своей семьей. И тем не менее еще не решил: хочет он на ней жениться или нет, и время от времени паникует — не слишком ли далеко зашел. Он подбадривает себя, думая о людях, которым женитьба не помешала стать великими: Уильяме Рэндолфе Херсте[2] и Уильяме Хауарде Тафте — тот только что стал президентом США.
Отец подходит к материнскому дому. Он пришел слишком рано и от этого — неожиданно для себя — конфузится. На его громкий звонок выбегает моя тетка, мамина сестра, с салфеткой в руке: семья еще не кончила обедать. Когда отец входит, мой дед встает из-за стола, пожимает ему руку. Мама кинулась наверх — прихорошиться. Моя бабушка спрашивает, пообедал ли он, и говорит, что Роза сейчас спустится. Мой дед, чтобы завязать разговор, замечает, какая прекрасная нынче на дворе погода. Отец неуклюже присаживается к столу, не выпуская из рук шляпы. Моя бабушка велит тетке принять отцовскую шляпу. Мой дядя — ему двенадцать, — встрепанный, влетает в комнату. Он громогласно приветствует отца: тот время от времени сует ему пять центов. С отцом в этом доме обращаются уважительно и в то же время явно потешаются над ним. Он импозантный и одновременно нелепый.
2
Наконец моя мать спускается вниз, она приоделась, и отец — его к этому времени уже вовлек в разговор мой дед — смешался, не знает: то ли поздороваться с матерью, то ли продолжить разговор. Он мешковато поднимается, отрывисто кидает ей «Здрасьте». Мой дед присматривается к ним, оценивает, насколько они — уж какие ни на есть — подходят друг другу, а сам тем временем яростно чешет бороду: так он делает всегда, когда что-то обдумывает. Он беспокоится: а что, если мой отец не станет хорошим мужем для его старшей дочери? Тут отец отмачивает какую-то шутку, и фильм прерывается; а я пробуждаюсь — я снова сам с собой, со своей бедой, хотя только-только началось самое интересное. Публика теряет терпение, хлопает в ладоши. Потом неполадки устраняют, но фильм запускают с той части, которую уже показывали, и я снова вижу, как мой дед чешет бороду — гадает, что за человек мой отец. Снова включиться в картину и забыться трудно, но вот моя мать рассмеялась над отцовской шуткой, и меня обволакивает темнота.
Мои отец и мать уходят, отец снова пожимает руку матери — им овладевает неведомое до той поры смущение. Смущенно ерзаю и я, осев в жестком киношном кресле. А где мой старший дядя, материнский старший брат? Занимается в спальне наверху, готовится к последним экзаменам в Нью-Йоркском городском колледже — он уже двадцать один год как умер от молниеносной пневмонии. Мои отец и мать снова идут теми же тихими улицами. Моя мать держит отца за руку, пересказывает ему роман, который только что прочла; отец, по мере того как сюжет проясняется, выносит суждения о персонажах. Это неизменно доставляет ему удовольствие: одобряя или порицая других, он преисполняется чувством собственного превосходства и уверенности в себе. Временами, когда повествование становится, как он выражается, уж слишком слюнявым, он полагает себя обязанным фыркнуть. Мужчина должен быть мужчиной — иначе нельзя. Мою мать радует, что у отца ее рассказ вызвал интерес: он видит, какая она умная и как ему будет интересно с ней.