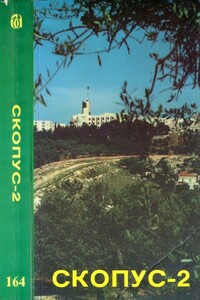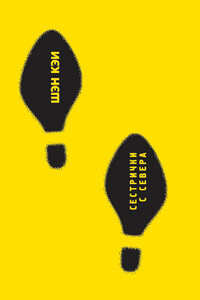Велено — значит, надо, и Мишка проснулся сам, глаза открывать не стал: в доме все равно было темно. Шептались на родительской кровати, в качалке слышалось посапывание Сонечки, годовалой сестренки.
Потом поднялся отец и включил свет, пошел к печке за брезентовой сумкой. Мишка разлепил один глаз, увидел, что железные ходики на стене показывают шесть, а гирька с цепочкой болтается у пола. — Поздно, сынок, хватит нежиться.
Мишка взял со стула рубашку, штаны, надел носки, влез в галоши. На одной отстала подошва, он поковырял ее пальцем, пробурчал: — Хожу у тебя драный, как обормот. Сапожник еще называется. — Не хнычь, починю. Сонечку разбудишь. — Не ругай ребенка, — отозвалась с постели мать.
Она встала, подошла к Мишке, застегнула на нем пуговицы, повязала шарфом шею. Он стоял и доверчиво шатался в ее руках, а теплый дух ее тела обволакивал Мишку. — Готов, Мишаня? — спросил отец. — Выходи, заспались сегодня.
Как обычно, с тревогой и болью, мать им сказала: — Берегите себя, ради Бога. Я волноваться буду.
За ночь грязь в переулке подмерзла, окаменела. Мелкие лужи затянуло льдом. Разбежавшись, можно с удовольствием по ним прокатиться. Мишка быстро согрелся, увлекся, повеселел. Отец далеко отстал, куда угнаться ему за Мишкиной резвостью. У отца голова полна хлопот, он и вверх не взглянет. А луна на небе большущая, яркая, на ущербе, правда. Небо иссиня-черное, звезды на нем точно цветные яблоки. Голые деревья в переулке стынут в серебре инея. Тихо, живой, зимний сон. А дышится как! Всей грудью.
Домчал он до конца переулка, стал дожидаться отца. — Пап, ты здесь голосовать будешь?
Отец посмотрел в чернеющую даль улицы. Мишка понял, что здесь им машины не дождаться. — Нет, сынок, идем-ка на Шахризябскую.
Пошли они проходными дворами, сквозными подъездами, пропахшими кошками и керосином. Пугливо тут было Мишке, и жался он потеснее к отцу. Вышли на Шахризябскую, отец стал подымать руки навстречу грузовикам. Легковым машинам отец не сигналил, по опыту знал — редко какая шла в этот час к старому городу.
Вскоре одна притормозила у кювета. Отец побежал договариваться с шофером. Мишке незачем бежать: надо будет — отец кликнет, нет — вернется. Эге-е-еге, Мишаня!
Сидит Мишка в кабине, косит глазами на шофера: узбек — не узбек, киргиз — не киргиз. Гадает по скуластому лицу. А тот уткнулся в стекло, не улыбнется, не заговорит, закурить не попросит, будто и не люди с ним рядим сидят. Вот досада! Половину утренних удовольствий теряет Мишка! Ведь сколько историй знают шоферы эти. Догадался, видать, кто рядом, в кабине. Евреи, спекулянты. Кто же еще в такую рань на барахолку бежит.
И Мишка тоже стал смотреть на широкий проспект. Черт с ним, с этим шофером. Маячили на пустынной дороге дворники, сметая тяжелую, зимнюю пыль в арыки, громыхали пустые трамваи, всплывали из парка троллейбусы, а с дуг их сыпались гроздьями искры.
Проспект кончался большой, круглой площадью, начинался старый город. Машина остановилась. Дальше путь держать можно было или пешком или на ослике. Они расплатились и вышли. Мишка увидел, что небо посветлело, луна поблекла, свет ее сник, стерся. И звезд почти не осталось, разве что самые спелые.
Пошли они вдоль глиняных дувалов, пошли быстро. И Мишка знал почему. Бывало приедут пораньше, а рядом другие на барахолку тянутся. Кто с сумкой, с мешком за плечами, кто со связкой картона. Подшучивают друг над другом, с добрым утром перебрасываются. И отец тогда в хорошем настроении. По-узбекски говорить пытается. Ну и комедия! Ничпуль — почем, пуль — деньги. Знает пару торговых слов и крутит ими невпопад. Вот Мишка — он знает язык, да. Послушает его речь узбек, языком от удовольствия зацокает, головой покачает. Ай да кичкина, ай да ребенок! А что особенного? В их деле без языка, что без рук. Бесценный помощник отцу Мишка.
При барахолке есть у него постоянное место в стене мечети, в проломе. Мишка там неприметен, да и сухо там. Отец товар закупает, а он сидит себе, ждет. Отец кулек гвоздей принесет, подошвы, дратву, всегда одно и то же. Вначале не понимал Мишка, зачем он тут нужен. То давно было, никакой он тогда хитрости не знал, дурачок был. А все просто: отцу с сумкой ходить опасно. Ему лучше, когда руки в брюках. Чуть что, — а я, товарищи, здесь ни при чем, вы тех ловите, что с товаром, с торбой. И если есть вещь в руках, швырк ее в сторону — невелик убыток. Самое главное — при Мишке, в сумке. Побежал я, — говорит отец — К шапочному разбору пришли. А ты сам, знаешь, глаз не жалей.
Мишкино дело охотничье. Вот у кого жизнь, вот где опасность! Все по-настоящему. Тайну его в школе не знают. Язык за зубами держи, Мишка.
И в самом деле, что в настоящей жизни сынки маменькины понимают? Майнридов читают, шерлокхолмсов. Ух, мы бы в шпионы пошли, в пограничники! А узнай они про Мишкину жизнь, думаете похвалят, позавидуют? Тут же сбор совета дружины соберут, из пионеров выкинут, к школе не подпустят. До семьи доберутся, отца посадят. — Ну как, Мишаня, тихо все? — спрашивает отец, запихивая товар в сумку. Оглядывается тревожно. — Тихо, пап.
Прямо против Мишки цементный бассейн, хауз — по-узбекски. Летом тут полно воды. И чайхана на берегу летом открыта, ивы плакучие, травка изумрудная, одно удовольствие. Летом сидят люди с чаем, лепешки, плов кушают, сладкую мешалду. Замечательная штука мешалда здешняя — белая, пенистая, нежная. Стоит, сволочь, дорого. Но Мишке отец не откажет, пожелай он только. Хочет-то мешалду он всегда, но и цену семейной копейке знать надо. Сапожник отец и точка. С утра до вечера на фабрике, зарплата шестьдесят рубликов. Попробуй прожить, не калымить. Попробуй не вертеться! Тихо, Мишаня? — подходит отец. И снова товар в сумку. До середины уже полна. Достает отец тряпочку из кармана, вытирает пот со лба. Руки у него дрожат. Засекай все внимательно, — говорит. — Предчувствие у меня нехорошее сегодня. — Скоро домой пойдем, пап? — Скоро, еще разочек спущусь.