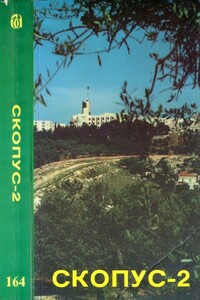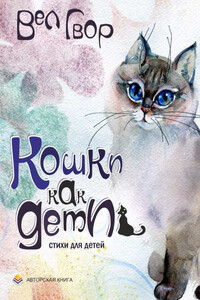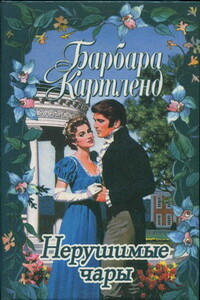Тут я, евреи, с притчи одной хочу начать: с какого конца тут ни начни, — все равно мне этой притчи о рыбке не миновать.
Итак, жила-была, как говорится, одна маленькая рыбка, и все она истину по миру искала. И услыхала однажды, что жить могут рыбы исключительно в воде, без воды, дескать, сразу им смерть наступит. И с тех пор крепко наша рыбка задумалась: а что же такое вода. Существует ли это на свете? А если да, то где же? И у кого бы она это ни спрашивала — никто ей толком не мог ответить. В конце концов посоветовали спросить у одной древней и умной рыбы, что обитает в мрачных пучинах океана. Приплыла к ней рыбка, и та ей говорит: «Вода — это вода, это то, что всегда вокруг нас, чем мы дышим и существуем…»
Вот и вся притча, евреи, а теперь поехали дальше.
Стою я как-то на Пушкинской, возле почтамта, жду четвертый номер автобуса, тот, что следует в сторону сквера Революции. А голова у меня полна Израилем.
Стою, значит, на остановке, постигаю август, последний мой август в этой стране: счастливый, понятливый, очень такой задумчивый. Лицо мне овевает прохладный ветерок, на асфальте тени карагачей лежат. Вы ведь знаете, что с человеком происходит, когда входит в него Израиль. Тут и спрашивать тебя не надо: есть Бог на свете, или нету Его? Вместе с Израилем и истина в тебя эта входит. Тут ты, точно рыбка та самая маленькая, сразу видеть начинаешь, чем дышишь и существуешь. Ну и воспринимаешь все совершенно иначе…
Подходит мой автобус, как и положено, — битком набитый публикой.
Все кидаются к задней двери, очень такие шустрые
«Да, — говорю я себе, — так ты, брат, ни не уедешь!» И захожу в автобус с передней площадки.
Захожу, достаю пятачок из кармана и прошу передать кондуктору.
И вдруг через всю эту сельдь в бочке, через головы и фуражки, различаю на том конце Семеныча. А он тоже меня заметил, тоже весь встрепенулся, бедный.
— Давай сюда, — замахал я ему. — Сюда пробирайся, тут у меня свободней!
А сам замечаю: лицо у него какое-то новое, не такое, просветленное что ли! Сразу мне это в глаза бросилось, понравилось сразу. Шесть лет человека не видел, как же он хорошо изменился! И радуюсь потихоньку, как дурачок: неужто и он стал видеть воду вокруг себя? Воду и Бога!? Ну просто бери да посылай человека тут же в Израиль!
Что ни говорите, евреи, а милостив Бог был со мной: со всеми дал свидеться напоследок, попрощаться. Слово сказать сердечное. Казалось бы, канули дорогие друзья в небытие, давно разъехались каждый в свою судьбу и сторону, и больше никогда тебе не увидеть этих людей, прошедших некогда через прошлое. Ан нет, и Генка Белов напоследок точно с неба свалился, и Селика Адамова повстречал, и Галочку Яниховскую, и даже Валерию Павловну, первую учительницу свою. Сто лет не встречал старушку, а тут возьми она да появись! И вовсе не чирикал я на каждой крыше, что в Израиль уезжаю, а так получалось, будто сама рука судьбы добрая приводила их ко мне. Так вот и Шурик Семенов возник в автобусе…
Даже отсюда, из Иерусалима, могу я вам сказать сейчас приблизительно, где они все, и чем в этот час занимаются. Генка, скажем, Белов — этот в Голодной степи своей околачивается с рейками и теодолитом, Селик Адамов по-прежнему в Мирзачуле, борется за возвращение крымских татар на родину. А если не в Мирзачуле Селик, тогда в Москве — петицию очередную привез в Кремль передать, больше ему и негде там быть. Галочка — в Туапсе живет, вышла замуж. Выходит вечерами на мол, к морю, слушает волны, вспоминает любовь нашу, думает обо мне: как я тут в Иерусалиме, и не съели ли меня арабы? Зато Шурик Семенов никуда уже не пойдет и не поедет, и ничего с ним случится не может. Этот на кладбище лежит. На кладбище мой Шурик лежит, под лессовой пылью и колючками. Очень там кладбище неприглядное, без цветов и кустика зеленого.
Да, евреи, поскольку мы уже здесь, в Иерусалиме, согласитесь со мной и ответьте: разве выбросишь всех этих людей из памяти, когда видишь у них напоследок такие замечательные лица? И идут они к тебе в автобусе, дико работая локтями, навсегда попрощаться, совсем, совсем попрощаться. А за эту минуту в тебе успевает прокрутиться километров тысяча кинопленки из самых разных лет…
Вот хотя бы одно из самых ранних воспоминаний: второй трамвайный маршрут через Алайский базар. Звенит, грохочет трамвай, как бешеный, а на заднем вагоне, на буфере болтается шкет лет восьми. Это Семеныч. И прижимает к себе скрипочку в футляре. Так он ездил на уроки в музыкальную школу исключительно на буфере. Скрипачом особенным я его не знал, зато на рояле он шпарил потрясающе. На всех вечеринках гвоздем программы был, гвоздем любой конторы. У них дома стоял рояль красного дерева — отец из Германии привез после войны в качестве трофея. Отец его чуть ли не целый вагон пригнал трофеев из Германии… Шурик и меня вечно тащил кататься на буфере, обучил соскакивать с трамвая в любом месте и на любой скорости.
В детстве я слыл неплохим кулачным бойцом. Только Семеныча да Вовку Столбова мне так и не удалось поколотить ни разу. Вовка Столбов, этот, скажу прямо, врезал мне в глаз здоровенным, мужицким своим кулачищем со страшной силой, и я свалился в пыль, суча ножками, и визжал так, что и сейчас вспоминать позорно. А с Семенычем мы стукались в школе чуть ли не на каждой большой перемене — первого места поделить не могли в классе. Он владел широкой стойкой с низкой посадкой, и так нырял под вашими кулаками, что попасть ему по сопатке было абсолютно невозможно. Очень уж аккуратно нырял он.