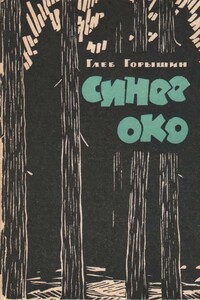В конце 1988 года в залах Русского музея долгое время экспонировалась выставка «Искусство 20 — 30 годов». Я думаю, если бы ее сохранить как постоянно действующую до сего времени, на нее бы и нынче текли и текли разнообразные люди, ленинградцы и приезжающие в наш город... за красотой, ибо ничем другим он не балует...
Некоторые художественные полотна на выставке, долежавшие в запаснике до своего часа, обжигали душу неоднозначностью запечатленного художником мгновения мира и духа. Почти над каждой работой витал образ-судьба художника, примером жизни-искусства взывающего к чему-то вечному, всечеловеческому. Творения русских мастеров 20 — 30 годов не поясняют, не назидают, а погружают нас в тревожное раздумье о судьбах мира, наводят на мысль о том, что настало время спасать его красоту... собирать камни.
Из художников того времени почти никого не осталось в живых. Картины хотя и открыты для обозрения спустя полвека после своего явления в свет (чуть больше, чуть меньше), но что-то недоговаривают, утаивают. Биографические справки о художниках тягостно-безысходны, как уведомления о посмертной реабилитации...
На выставке «Искусство 20 — 30 годов» я искал человека, как всюду, всю жизнь: в человеке начало начал, разгадка, ответ. Искал — и вдруг нашел, по счастью... В первом зале выставки меня остановили работы В. И. Курдова: «Балалайка», «Китайский фонарик», «Висячие лампы» — того самого времени, какому отдана выставка, в духе кубизма, со всеми следами школы, со смещением граней, плоскостей, с прямыми углами, с игрой цвета, с зеркально-углубленной полихромией. Чуть подальше еще одна курдовская вещь, сюрреальный, может быть, и супрематический «Валенок», строго монохромный опять же согласно канонам школы. Работы Курдова не выделяются в общем ряду знаком особости, но и не выпадают из ряда, свидетельствуют о том, что молодой в 20-е годы художник Курдов прилежно учился у своих учителей. И учителей можно назвать поименно, их работы здесь же по соседству на выставке.
Может быть, самое трогательное духоподъемное мое впечатление от выставки «Искусство 20 — 30 годов» и состоит в том, что я повстречался на ней с Валентином Ивановичем Курдовым, ее живым участником, давным-давно любезным моему сердцу художником, восьмидесятитрехлетним, изысканно-щеголеватым, как было принято у художников в его время, в бархатных штанах, в твидовом пиджаке, в лаковых остроносых штиблетах, с цветной косынкой на шее, с мощными, огрузшими книзу плечами пахаря, с гордым посадом крупной головы, с большими натруженными руками, с мягкой счастливой улыбкой... Ну право же, счастье дожить до этого вернисажа в Русском музее... Встретил на выставке Курдова — и явилась возможность соединить то, что вывешено на стенах, с судьбой, с душой человеческой...
По давней нашей дружбе с Валентином Ивановичем Курдовым он успел мне кое-что высказать, хотя его тянули в разные стороны. «Сколько лет нас призывал Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, — сказал Курдов, скрещивая руки на груди, поводя своим большим, вислым носом, — учиться у старой русской живописи, у иконы, сколько остерегал против западничества. А мы в Академии тогда с ума сходили по импрессионизму, кубизму. Мы боролись с Петровым-Водкиным, он был нашим главным врагом. А ведь прав был Кузьма Сергеевич...» — Прошли немного, остановились. — «Мы с Чарушиным, — продолжил Валентин Иванович, — бегали к Малевичу учиться кубизму. Лебедев, бывало, говаривал нам: «Валяйте, ребята, изголодаетесь по натуре, сами вернетесь». Так и вышло». Дошли до Филонова... Курдов закручинился, поник, вспомнил: «В последний раз я видел Павла Николаевича осенью в сорок первом году. В самое тяжелое время блокады. Мы в одной очереди стояли, в карточном бюро на Невском проспекте, карточки получали. Я в «Боевом карандаше» работал, мне рабочая карточка, 250 граммов хлеба, а ему иждивенческая — 125...»
Я могу долго еще приводить курдовские высказывания, слышанные в разное время, но всегда связанные одно с другим в то целое, что называют кредо художника, неотделимое от его поведения в жизни, искусстве. Все это (или не все) вошло в книгу В. И. Курдова «Памятные дни и годы. Записки ленинградского художника». Помню, когда Валентин Иванович работал над книгой, по обыкновению вслух размышляя, однажды сказал: «Мой учитель Владимир Васильевич Лебедев незадолго перед смертью мне говорил: «Я художник двадцатых годов. За то, что после, я не в ответе». Я так могу сказать про себя: «Я художник тридцатых годов; я выразил все, что мог, на языке искусства тридцатых годов. Ну, и сороковых. И в войну...»
В подзаголовке своей автомонографии «Памятные дни и годы» счел нужным особо подчеркнуть: «Записки ленинградского художника». Это важно для Курдова: «Я не вообще художник. Ленинградский...»
Курдовские «Записки», главы будущей книги печатались в журналах «Аврора», «Звезда», я читал рукопись... Первая моя мысль по прочтении «Записок» была такая: не следует относить эту книгу художника Курдова к какому-либо специальному роду литературы, к искусствознанию или мемуаристике. В свое время Лев Толстой предвещал, что в будущем писатели, если таковые найдутся, откажутся от выдуманных сюжетов и историй, станут писать только о том значительном, важном, что довелось им повидать и пережить.