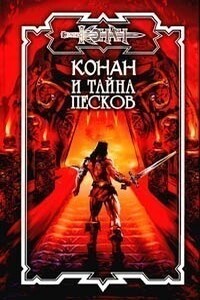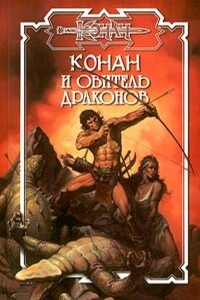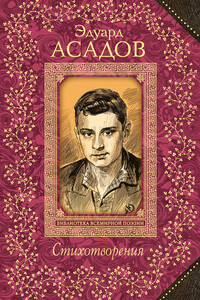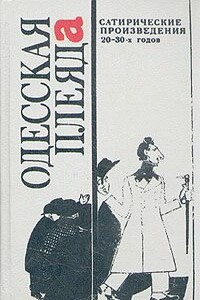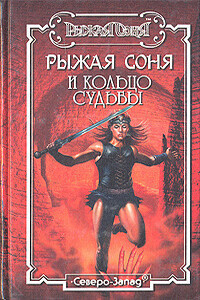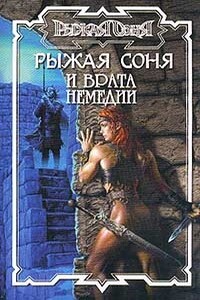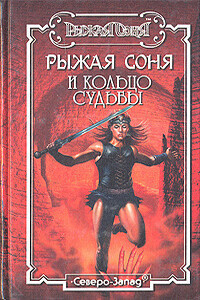Она устала так, что готова спать трое суток без перерыва. Сон — точно прохладная, кристально-прозрачная вода в горном озерце… внизу желтеет песок, недвижимый, застывший, как она сама застыла сейчас, погрузившись в пучину, а вода такая чистая, что невозможно определить ее глубину. Только когда нырнешь, понимаешь, что до дна не рукой подать, а много, много дальше… Она достигает дна. Она ложится на дно. Ей не хочется шевелиться, не хочется думать ни о чем. Сон-вода едва уловимо колышется в бесконечной высоте, в такт дыханию, в такт замедлившемуся пульсу, в такт ее отсутствующим мыслям. Она отдыхает. Она не хочет ни о чем вспоминать.
Видения порой мелькают совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, но она не пытается их ловить. Видеть ни к чему. Она достаточно навидалась за эту луну. Так минует целый день, а за ним следует ночь.
…Стук. Громкий, настойчивый. Соня вскакивает мгновенно, словно и не нежилась только что в постели, — роскошь, от которой успеваешь быстро отвыкнуть за время разъездов. Она натягивает на себя первое, что подворачивается под руку: длинную тунику со шнуровкой на груди, — рубаха доходит почти до середины бедер, — и, не заботясь о том, чтобы искать штаны, тем более, что ей противна сама мысль натягивать на себя пропитанную конским потом одежду, она распахивает дверь.
Стевар на миг замирает, делает шаг назад. Ей нравится, как он краснеет, этот северянин. Лицо заливает краской, так что веснушки выступают на нем белыми пятнышками, словно россыпь крохотных монеток, затем краснеют уши, шея и даже затылок. Он смущенно прячет в рукава свои крупные крестьянские руки, отводит глаза, не зная, куда себя девать.
— Ну что встал-то, заходи, — она отступает на шаг, едва ли не силой затягивая парня в комнату. Потом, решив, что не стоит так уж издеваться над этой невинной душой, оглядывается по комнате в поисках, чего бы надеть.
И тут же хмурится. На сундуке в изножье кровати стопка сложенной одежды. Чистой, пахнущей лавандой…
Это Мийна добавляет повсюду свои травы, — всегда знаешь, что ты дома, когда надеваешь рубаху с очередным цветочным ароматом. Мужчины, обитатели Логова, помнится, сперва возражали, орали во всю глотку, что не желают, чтобы от них несло, как от дешевой шлюхи, но Мийна обиделась всерьез, надулась, уступать отказалась наотрез, и, очутившись перед выбором: ходить ли в грязном, или смириться с ненавистным ароматом, парни все же благоразумно выбрали последнее. Для Сони, впрочем, такой вопрос не стоял изначально.
Ухватив легкие домотканые штаны, яркими красными узорами расшитые понизу, она натягивает их и хмурится, не обращая внимания на гостя.
— Ты чего злая-то такая?
Стевар уже слегка оправился от смущения, алые пятна постепенно сползают с лица.
— Могу и уйти, коли не вовремя.
Соня пренебрежительно машет рукой.
— Да нет, ты тут ни при чем. Просто я, видно, совсем уже чутье потеряла. Ко мне кто-то заходил сегодня, раз одежду чистую принесли, а я даже не слышала!
Она раздосадованно трясет рыжей головой. Стевар сочувственно кивает. Для него это не девичья блажь, не прихоть, он прекрасно понимает, чем так встревожена воительница. Сегодня ты не слышишь, как служанка принесла тебе чистую смену одежды, завтра не учуешь подкравшегося убийцу…
— Да ладно, — наконец пожимает он плечами. — Тебя ведь ждали еще несколько дней назад. Разара себе все когти сгрызла, дозорных отправляли на дорогу каждое утро. Наверное, загодя и принесли твое барахло…
Соня знает, что это не так, потому что аромат слишком свежий. Сейчас он раздражает ее, как прямое свидетельство преступного небрежения. Этот запах хуже, чем удар кинжала. Теперь она подозревает, что всегда, стоит лишь ей унюхать аромат лаванды, у нее будет такое ощущение, будто ей надавали оплеух. Ну, может, оно и к лучшему. Куда безопасней спохватиться сейчас, впредь будет осторожнее!
Мгновенно отбрасывая все неприятные мысли, ибо не таков обычай воительницы, чтобы подолгу надсаживать душу по поводу собственных оплошностей, она широко улыбается Стевару, ударяет его в плечо кулаком.
— Ну что, волчонок, рассказывай, как тут у вас. Скучал?
Здоровяк-северянин трясет кудлатой головой, расплываясь в широкой ухмылке.
— Не-е, не скучал.
Простая душа, он даже не понимает, что слова его могут показаться кому-то обидными. По счастью, Соня ему не подружка, не любовь всей жизни. Ей совершенно не обязательно, чтобы Стевар, пока она в отъезде, мучился и не находил себе места от тоски.
— А чего заявился тогда с утра пораньше, если не скучал? — подкалывает она парня.
— Ну, так бегать вдвоем веселее, в одиночку я замаялся, да и не то совсем. Пойдешь?
Сейчас ей меньше всего хотелось бы выбираться на улицу, где, как она видит через узкое окно, еще лишь отчаянно неохотно пробиваются первые предрассветные лучи, тусклым серым светом заливая просторный двор Логова, черепичные крыши служб и золотой купол храма. Постройки выделяются из тьмы едва различимыми перламутровыми тенями. Кажется, дунь и исчезнут… Иногда ей хочется, чтобы они исчезли. Сейчас особенно.
Но не в ее привычках раскисать… В углу, как обычно, стоит таз и медный кувшин с водой для омовения. Не обращая никакого внимания на жмущегося к окну Стевара, она начинает умываться, затем тщательно расчесывает костяным гребнем свои роскошные рыжие кудри, отмечая попутно, что слишком давно не уделяла нужного внимания волосам, и они опять безобразно отросли. Безобразно, по меркам Сони, означает почти до поясницы. В таком виде их не спрячешь ни под капюшон плаща, ни, тем более, под шлем. Пачкаются в любой грязи, в лесу цепляются за ветви, — сущее безобразие! Порой ей вообще хотелось бы остричься налысо, но жалко. И к тому же насколько быстро они растут! Никогда и ни у кого не видела подобного. Со вздохом она прикидывает, успеет ли вечером заглянуть к Мийне: помимо обязанностей прачки, та всегда помогает желающим справиться и с этой заботой.