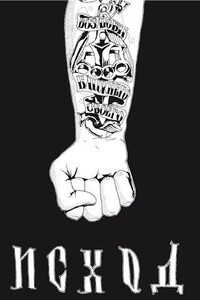Чуть брезжилось утро. Солнце только-что засвѣтило блѣднымъ свѣтомъ, который освѣтилъ голыя вершины холмовъ, недавно еще покрытыхъ свѣтомъ, а теперь желтыхъ, какъ глина, воздухъ былъ теплый, весенній и съ желтыхъ холмовъ скатывались ручьи, неся съ собой остатки снѣга, грязь, глину, и растекались по полямъ. А поля, на половину оттаявшія, на половину покрытыя снѣгомъ, тамъ и сямъ показывали прогалины голой земля, покрытой прошлогоднею желтоватою травой… Ближе къ деревнѣ снѣгу совсѣмъ не было видно. Рѣчка, извивавшаяся вокругъ нея, уже бурлила; по улицамъ журчали ручьи, увлекая съ собой грязь и навозъ. Начиналась весенняя чистка деревенскаго воздуха и земли. Даже дымъ, стоявшій надъ деревней каждое утро, не былъ такъ ѣдокъ, какъ зимой — испускаемый всѣми наличными трубами, онъ разсѣевался въ воздухѣ. Только одна изба не топилась, изъ ея трубы не валилъ дымъ, возлѣ ея воротъ не видно было жизни, въ видѣ поросятъ, собакъ и ребятишекъ, и ея окна не были открыты, какъ дѣлается эта въ другихъ избахъ, обитатели которыхъ не желаютъ задохнуться въ копоти. Однимъ словомъ, не топилась печь въ избѣ Савостьяна Быкова, извѣстнаго въ деревнѣ болѣе подъ уменьшеннымъ именемъ Савоси.
Съ ранняго утра поднялась вся семья его, поднялась она было на обычную работу, но съ перваго же мгновенія, когда семья продрала глаза отъ тревожнаго сна, никакой настоящей работы не оказалось; всѣ были какъ будто заняты, но всѣ занятія имъ какъ будто были не нужны, безполезны и затѣвались зря. Татьяна занималась около пустой, холодной печки, перемывала посуду, перетряхивала нѣсколько разъ помело, но какъ бы сомнѣвалась, были-ли необходимы всѣ эти дѣйствія, обычныя во всякое другое время и безсмысленныя теперь. Она осмотрѣла пустую квашню, поскребла ее ножомъ, вымыла и поставила сушить; однако, квашня только напоминала ей хлѣбы, которые бы она теперь «мѣсила», а хлѣбовъ въ домѣ не было, потому что вчера еще испечена была послѣдняя горсть пыли и муки; приготовленіе квашни, слѣдовательно, ни къ чему не вело, лишь наполняя пустое время Татьяны. Между ненужными занятіями она разъ только спросила о дѣлѣ.
— Нѣту? — спросила она у Савоси.
— Нѣту, — отвѣчалъ тотъ смущенно,
Послѣ этого Татьяна кольнула ладонью въ голову Шашку, которая возъимѣла было намѣреніе влѣзть головой въ ведро съ помоями. Шашка заплакала и стала просить ѣсть, что еще больше возмутило мать и она рѣзко сказала:
— Молчи, Шашка! Нѣту у насъ ѣсть. Вонъ проси у отца… И чего же ты сидишь, какъ пень? — обратилась вдругъ Татьяна къ мужу. — Чай, ѣсть-то надо?
Савося съ самаго утра сидѣлъ на лавкѣ и приставлялъ заплату къ полушубку, который, правда, очень расхудѣлся, но не былъ еще такъ плохъ, чтобы имъ однимъ заниматься въ тотъ день, когда есть было нечего. Онъ все время молчалъ и копался въ полушубкѣ. Но когда Татьяна обратилась къ нему съ упрекомъ, онъ вдругъ поднялся, заволновался, надѣлъ не дочиненный полушубокъ и заговорилъ скоро, торопливо, обращаясь ко всей семьѣ и повторяя одно и то же:
— Авось, Богъ дастъ, промыслимъ! Не въ первой… живы будемъ, Богъ милостивъ!… Айда, робя, промышлять, кто куды!… Опчими силами. Господи благослови! Васька, Ванюшка! Живѣй, други, одѣвайся, валяй въ кусочки, на прокормленіе! Авось помирать не придется, чай, мы православные хрестьяне… Добрые люди помогутъ, способіе будетъ… Дастъ Богъ, поправимся. Стало быть, хлѣба у васъ въ нынѣшнія сутки нѣту и каждый изъ насъ промышлять должонъ. Васька! Ванюшка! Живѣе шевелись!… Господи благослови!
Высказавъ это, Савося постоялъ съ безпокойнымъ лицомъ около лавки, потомъ, когда Васька и Ванюшка живо стали одѣваться и искать кошели, къ обращенію съ которыми они издавна привыкли, онъ притихъ, успокоился, снова сѣлъ, скинулъ полушубокъ и принялся разсматривать его, намѣреваясь снова приняться за его починку. Возбудивъ своихъ сыновей идти промышлять, онъ и самъ на мгновеніе воодушевился, но, вспомнивъ, что собственно промышлять ему негдѣ, онъ сразу опустился. Эта мысль, очевидно, стукнула прямо его по головѣ, и онъ сѣлъ. Обычное спокойствіе его возвратилось, опять все вниманіе его обратилось на разорванныя мѣста полушубка и опять онъ оглядывалъ равнодушно свою семью: Татьяну, Ваську, Ванюшку, Шашку. Послѣдняя, потерпѣвъ пораженіе около помойнаго ведра, подошла къ отцу и ласково терлась щекой о его колѣни. Она была худая, полуголая дѣвочка. Нужда отразилась на всемъ ея худенькомъ и грязномъ тѣльцѣ, рисовалась во впалыхъ и грустныхъ глазахъ, которые были постоянно широко раскрыты, какъ бы изумлялись, почему ей не всегда давали ѣсть, отпечатывалась на поблѣднѣвшихъ щекахъ и на животѣ, который былъ постоянно надутъ, какъ пузырь. Она иногда ложилась на животъ и, болтая ногами, уставляла взглядъ широко раскрытыхъ глазъ на отца или на мать, и не сводила его до тѣхъ поръ, пока ее не отвлекалъ другой предметъ. Мать сердито отворачивалась отъ этого взгляда удивленія; отецъ всегда приходилъ въ нѣкоторое смущеніе. Теперь онъ погладилъ свою Шашку по головѣ и опустилъ глаза на полушубокъ. Онъ не сказалъ ей ни одного ласковаго слова: молчалъ. Молчала и Татьяна. Только Васька и Ванюшка ужасно возились; надѣвая штанишки, полушубки и отыскивая шапки, они подняли содомъ, смѣялись и не скрывали своей радости, отправляясь «въ кусочки». Во-первыхъ, они захотѣли ѣсть; во-вторыхъ, имъ уже мысленно представлялось, по дорогѣ въ другія деревни, множество предпріятій около ручьевъ, лужъ и бушевавшей отъ весенняго разлива рѣки. Нужды нѣтъ, что они отправлялись собирать «пособіе» кусочками, но дѣтская натура взяли свое, и они уже заранѣе разыгрались. Васька надѣлъ на голову Ванюшки кошель и сквозь него потянулъ брата за носъ, а Ванюшка оралъ, вертѣлся на одной ногѣ и изъ глубины нищенскаго кошеля нѣсколько разъ прокричалъ скворцомъ. — Что вы, дьяволята, разбушевались? Васька… ахъ, ты, песъ паршивый! — закричала Татьяна, послѣ чего Васька получилъ громкій подзатыльникъ. — Постыдились бы хохотать-то, не на работу идете… Христарадники! — добавила Татьяна.